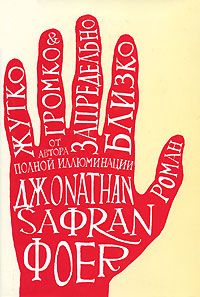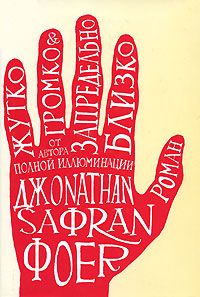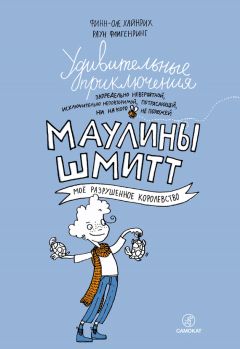Борис Рыжий - В кварталах дальних и печальных
Леонтьеву
«…Всё на главу мою…»
А. П.[50]
Сашка, пьяница, поэт,
ни поэму, ни сонет,
ни обычный ворох од
не найдешь ты в сем конверте.
Друг мой, занят я. И вот
чем. Уж думал, дело к смерти,
да-с, короче, твой Борис
было уж совсем раскис,
размышляя на предмет
подземелья, неба, морга.
Вдруг, поверишь ли, поэт,
появляется танцорка.
Звать Наташей. Тренер по
аэробике — и по,
доложу тебе, и но,
и лицом мила, как будто.
Хоть снимай порнокино
на площадке Голливуда.
Так что, Сашка, будь здоров.
Извини, что нет стихов, —
скверной прозою пишу,
что едва ль заборной краше.
С музой больше не грешу,
я грешу с моей Наташей.
«Дурацкий вечер, с книжечкой в руке…»
Дурацкий вечер, с книжечкой в руке:
Кенжеев на казахском языке.
«Диапазон довольно узкий…»
Диапазон довольно узкий
везде, особенно в стихах:
коль ты еврей, ты все же русский,
но коль казах, то уж казах.
«Поэзия должна быть странной…»
Поэзия должна быть странной —
забыл — бессмысленной, туманной,
как секс без брака, беззаконной
и хамоватой, как гусар,
шагающий по Миллионной,
ворон пугая звоном шпор.
…Вдруг опустела стеклотара
мы вышли за полночь из бара,
аллея вроде коридора
сужалась, отошел отлить,
не прекращая разговора
с собой: нельзя так много пить.
Взглянул на небо, там мерцала
звезда, другая описала
дугу огромную — как мило —
на западе был сумрак ал.
Она, конечно, не просила,
но я ее поцеловал.
Нет, всё не так, не то. Короче,
давайте с вечера до ночи —
в квартире, за углом, на даче —
забыв про недругов про всех, —
друзья мои, с самоотдачей
пить за шумиху, за успех.
«Вот эта любит Пастернака…»
«Вот эта любит Пастернака…» —
мне мой приятель говорил.
«Я наизусть “Февраль”…», однако
я больше Пушкина любил.
Но ей сказал: «Люблю поэта
я Пастернака…» А потом
я стал герой порносюжета.
И вынужден краснеть за это,
когда листаю синий том.
«На чьих-нибудь чужих похоронах…»
На чьих-нибудь чужих похоронах
какого-нибудь хмурого коллеги
почувствовать невыразимый страх,
не зная, что сказать о человеке.
Всего лишь раз я сталкивался с ним
случайно, выходя из коридора,
его лицо закутал синий дым
немодного сегодня «Беломора».
Пот толстяка катился по вискам.
Большие перекошенные губы.
А знаете, что послезавтра к вам
придут друзья и заиграют трубы?
Вот только ангелов не будет там,
противны им тела, гробы, могилы.
Но слезы растирают по щекам
и ожидают вас, сотрудник милый.
…А это всё слова, слова, слова,
слова, и, преисполнен чувства долга,
минуты три стоял ещё у рва
подонок тихий, выпивший немного.
«Все хорошо начинали. Да плохо кончали…»
Все хорошо начинали. Да плохо кончали.
Покричали и замолчали —
кто — потому что не услышан, кто —
потому что услышан не теми, кем хотелось.
Идут, завернувшись в пальто.
А какая была смелость,
напористость. Это были поэты
настоящие, это
были поэты, без дураков.
Завернулись в пальто, словно в тени, руки — в
карманы.
Не здороваются, т. к. не любят слов.
Здороваются одни графоманы.
«Дядя Саша откинулся…»
Дядя Саша откинулся. Вышел во двор.
Двадцать лет отмотал: за раскруткой раскрутка.
Двадцать лет его взгляд упирался в забор.
Чай грузинский ходила кидать проститутка.
— Народились, пока меня не было, бля, —
обращается к нам, улыбаясь, — засранцы!
Стариков помянуть бы, чтоб — пухом земля,
но пока будет музыка, девочки, танцы.
Танцы будут. Наденьте свой модный костюм
двадцатилетней давности, купленный с куша.
Опускайтесь с подружкой в кабак, словно в трюм,
пропустить пару стопочек пунша.
Танцы будут. И с финкой Вы кинетесь на
двух узбеков, «за то, что они спекулянты».
Лужа крови смешается с лужей вина.
Издеваясь, Шопена споют музыканты.
Двадцать лет я хожу по огромной стране,
где мне жить, как и Вам, довелось, дядя Саша,
и все четче, точней вспоминаются мне
Ваш прелестный костюм и улыбочка Ваша.
Вспоминается мне этот маленький двор,
длинноносый мальчишка, что хнычет, чуть тронешь.
И на финочке Вашей красивый узор:
— Подарю тебе скоро (не вышло!), жиденыш.
«Америка Квентина Тарантино…»
Америка Квентина Тарантино —
Боксеры, проститутки, бизнесмены,
О, профессиональные бандиты,
Ностальгирующие по рок-н-роллу,
Влюбленные в свои автомобили:
Мы что-то засиделись в Петербурге,
Мы засиделись в Екатеринбурге,
Перми, Москве, Царицыне, Казани.
Всё Александра Кушнера читаем
И любим даже наших глуповатых,
Начитанных и очень верных жен.
И очень любим наших глуповатых,
Начитанных и очень верных жен.
Ода («Ночь. Звезда. Милицанеры…»)
Скажу, рысак![51]
А. П.
Ночь. Звезда. Милицанеры.
парки, улицы и скверы
объезжают. Тлеют фары
италийских «Жигулей».
Извращенцы, как кошмары,
прячутся в тени аллей.
Четверо сидят в кабине.
Восемь глаз печально-синих.
Иванов. Синицын. Жаров.
Лейкин сорока двух лет,
на ремне его «Макаров».
Впрочем, это пистолет.
Вдруг Синицын: «Стоп-машина».
Скверик возле магазина
«Соки-воды». На скамейке
человек какой-то спит.
Иванов, Синицын, Лейкин,
Жаров: вор или бандит?
Ночь. Звезда. Грядет расплата.
На погонах кровь заката.
«А, пустяк, — сказали только,
выключая ближний свет, —
это пьяный Рыжий Борька,
первый в городе поэт».
«Мне говорил Серега Мельник…»
Мне говорил Серега Мельник:
«Живу я, Боря, у базара.
Охота выпить, нету денег —
к урюкам валим без базара.
А закобенятся урюки:
да денег нет, братва, да в слезы.
Ну чё, тогда давайте, суки,
нам дыни, яблоки, арбузы».
Так говорил Серега Мельник,
воздушный в юности десантник,
до дырок износивший тельник,
до блеска затаскавший ватник.
Я любовался человеком
простым и, в сущности, великим.
…Мне не крестить детей с узбеком,
казахом, азером, таджиком.
«Отделали что надо, аж губа…»
Отделали что надо, аж губа
отвисла эдак. Думал, всё, труба,
приехал ты, Борис Борисыч, милый.
И то сказать: пришел в одних трусах
с носками, кровь хрустела на зубах,
нога болела, грезились могилы.
Ну, подождал, пока сойдет отек.
А из ноги я выгоду извлек:
я трость себе купил и с тростью этой
прекраснейшей ходил туда-сюда,
как некий князь, и нравился — о да! —
и пожинал плоды любви запретной.
«Оставь мне небо темно-синее…»