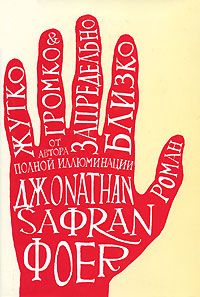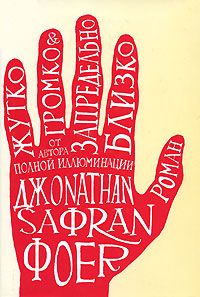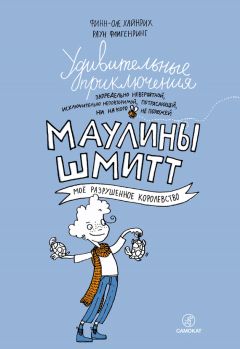Борис Рыжий - В кварталах дальних и печальных
«Оставь мне небо темно-синее…»
Оставь мне небо темно-синее
и ели темно-голубые,
и повсеместное уныние,
и горы снежные, любые.
Четвертый день нет водки в Кытлыме,
чисты в общаге коридоры —
по ним-то с корешами вышли мы
глядеть на небо и на горы.
Я притворяюсь, что мне нравится,
единственно, чтоб не обидеть,
поддакиваю: да, красавица.
Да, надо знать. Да, надо видеть.
И легкой дымкою затянута,
и слабой краскою облита.
Не уходи, разок хотя бы ты
взгляни в глазок теодолита.
Иначе что от нас останется,
еще два-три таких урока:
душа все время возвращается
туда — и плачет, одинока.
Писатель
Как таксист, на весь дом матерясь,
за починкой кухонного крана,
ранит руку и, вытерев грязь,
ищет бинт, вспоминая Ивана
Ильича, чуть не плачет, идет
прочь из дома: на волю, на ветер —
синеглазый худой идиот,
переросший трагедию Вертер —
и под грохот зеленой листвы
в захламленном влюбленными сквере
говорит полушепотом: «Вы,
там, в партере!»
«Еще не погаснет жемчужин…»
Еще не погаснет жемчужин
соцветие в городе том,
а я просыпаюсь, разбужен
протяжным фабричным гудком.
Идет на работу кондуктор,
шофер на работу идет.
Фабричный плохой репродуктор
огромную песню поет.
Плохой репродуктор фабричный,
висящий на красной трубе,
играет мотив неприличный,
как будто бы сам по себе.
Но знает вся улица наша,
а может, весь микрорайон:
включает его дядя Паша,
контужен фугаскою он.
А я, собирая свой ранец,
жуя на ходу бутерброд,
пускаюсь в немыслимый танец
известную музыку под.
Как карлик, как тролль на базаре,
живу и пляшу просто так.
Шумите, подземные твари,
покуда я полный мудак.
Мутите озерные воды,
пускайте по лицам мазут.
Наступят надежные годы,
хорошие годы придут.
Крути свою дрянь, дядя Паша,
но лопни моя голова,
на страшную музыку вашу
прекрасные лягут слова.
«…И понял я, что не одна мерцала…»
…И понял я, что не одна мерцала
звезда, а две, что не одна горела
звезда, а две, и не сказав, что мало,
я все же не скажу, что много было
их (звезд), чтобы расправиться со мглою
над круглою моею головою.
На смерть поэта
Я так люблю иронию мою.
И жизнь воспринимаю как удачу —
в надежде на забвенье, словно чачу,
ее хотя и морщуся, но пью.
Я убивал, а вы играли в дум*
до членов немощных изнеможенья.
И выдавало каждое движенье,
как заштампован ваш свободный ум.
А вы меня учили — это зал,
кулисы, зритель, прочие детали.
Вы жили, потому что вы играли.
Я жил, и лишь поэтому играл.
Вы там, на сцене, многое могли.
А я об стену бился лбом бесславным.
Но в чем-то самом нужном, самом главном
вы мне невероятно помогли.
Я, мнится, нечто новое привнес
в поэзию, когда, столкнувшись с вами,
воспользовался вашими словами,
как бритвой, отвращения не без.
Баллада
На Урале, в городе Кургане,
в день шахтера или ПВО
направлял товарищ Каганович
револьвер на деда моего.
Выходил мой дед из кабинета
в голубой, как небо, коридор —
мимо транспарантов и портретов
мчался грозный импортный мотор.
Мимо всех живых, живых и мертвых,
сквозь леса, и реки, и века,
а на крыльях выгнутых и черных
синим отражались облака.
Где и под какими облаками,
наконец, в каком таком дыму,
бедный мальчик, тонкими руками
я тебя однажды обниму?
«Пела мне мама когда-то…»
Пела мне мама когда-то,
слышал я из темноты:
спят ребята и зверята
тихо-тихо, спи и ты.
Только — надо ж так случиться —
холод, пенье, яркий свет:
двадцать лет уж мне не спится,
сны не снятся двадцать лет.
Послоняюсь по квартире
или сяду на кровать.
Надо мне в огромном мире
жить, работать, умирать.
Быть примерным гражданином
и солдатом — иногда.
Но в окне широком, длинном
тлеет узкая звезда.
Освещает крыши, крыши.
Я гляжу на свет из тьмы:
не так громко, сердце, тише —
тут хозяева не мы.
Кусок элегии
Н.
Дай руку мне — мне скоро двадцать три —
и верь словам, я дольше продержался
меж двух огней — заката и зари.
Хотел уйти, но выпил и остался
удерживать сей призрачный рубеж:
то ангельские отражать атаки,
то дьявольские, охраняя брешь,
сияющую в беспредметном мраке.
Со всех сторон идут, летят, ползут.
Но стороны-то две, а не четыре.
И если я сейчас останусь тут,
я навсегда останусь в этом мире.
И ты со мной — дай руку мне — и ты
теперь со мной, но я боюсь увидеть
глаза, улыбку, облако, цветы.
Все, что умел забыть и ненавидеть.
Оставь меня и музыку включи.
Я расскажу тебе, когда согреюсь,
как входят в дом — не ангелы — врачи
и кровь мою процеживают через
тот самый уголь — если б мир сгорел
со мною и с тобой — тот самый уголь.
А тот, кого любил, как ангел бел,
закрыв лицо, уходит в дальний угол.
И я вишу на красных проводах
в той вечности, где не бывает жалость.
И музыку включи, пусть шпарит Бах —
он умер, но мелодия осталась.
Памяти друга
Ю. Л.[52]
Жизнь художественна,
смерть — документальна
и математически верна,
конструктивна и монументальна,
зла, многоэтажна, холодна.
Новой окрыленные потерей,
расступились люди у ворот.
И тебя втащили в крематорий,
как на белоснежный пароход.
Понимаю, дикое сравненье!
Но поскольку я тебя несу,
для тебя прощенья и забвенья
я прошу у неба. А внизу,
запивая спирт вишневым морсом,
у котла подонок-кочегар
отражает оловянным торсом
умопомрачительный пожар.
Поплывешь, как франт, в костюме новом,
в бар войдешь красивым и седым,
перекинешься с красоткой словом,
а на деле — вырвешься, как дым.
Вот и все, и я тебя не встречу
в заграничном розовом порту
с девочкой, чья юбочка короче
перехода сторону на ту.
«Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь…»
Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь,
в белом плаще английском уходит прочь.
В черную ночь уходит в белом плаще,
вообще одинок, одинок вообще.
Вообще одинок, как разбитый полк:
ваш Петербург больше похож на Нью-Йорк.
Вот мы сидим в кафе и глядим в окно:
Рыжий Б., Леонтьев А., Дозморов О.
Вспомнить пытаемся каждый любимый жест:
как матерится, как говорит, как ест.
Как одному: «другу», а двум другим
он «Сапожок»[53] подписывал: «дорогим».
Как говорить о Бродском при нем нельзя,
Встал из-за столика: не провожать, друзья.
Завтра мне позвоните, к примеру, в час.
Грустно и больно: занят, целую вас!
«Когда бы знать наверняка…»