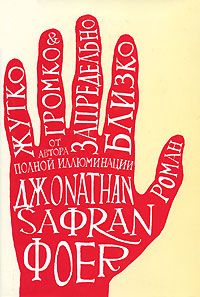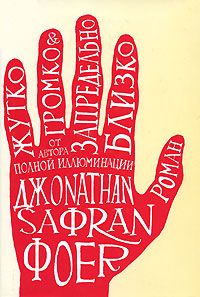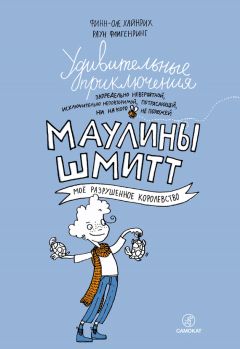Борис Рыжий - В кварталах дальних и печальных
«Давай по городу пройдем…»
Давай по городу пройдем
ночному, пьяные немножко.
Как хорошо гулять вдвоем.
Проспект засыпан белой крошкой.
…Чтоб не замерзнуть до зари,
ты ручкой носик разотри.
Стой, ничего не говори.
Я пессимист в седьмом колене:
сейчас погасят фонари —
и врассыпную наши тени,
как чертенята, стук-постук
нет-нет, как маленькие дети.
Смотри, как много их вокруг,
да мы с тобой одни на свете.
«…Дым из красных труб…»
…Дым из красных труб —
как нарисовали.
Лошадиный труп
в голубом канале.
Грустно без Л.Д.[37],
что теперь на море.
Лодка на воде,
и звезда — во взоре.
Но зато Л.А.[38] —
роковая дама,
и вполне мила,
как сказала мама.
Словно сочинил
это Достоевский.
До утра кадил
фонарями Невский.
И красив как бог
на краю могилы
Александр Блок —
умный, честный, милый.
«Поехать в августе на юг…»
Поехать в августе на юг
на десять дней, трястись в плацкарте,
играя всю дорогу в карты
с прелестной парочкой подруг.
Проститься, выйти на перрон
качаясь, сговориться с первым
о тихом домике фанерном
под тенью шелестящих крон.
Но позабыть вагонный мат,
тоску и чай за тыщу двести,
вдруг повстречавшись в том же месте,
где расставались жизнь назад.
А вечером в полупустой
шашлычной с пустотой во взоре
глядеть в окно и видеть море,
что бушевало в жизни той.
К Олегу Дозморову[39]
Владелец лучшего из баров[40],
боксер[41], филолог и поэт,
здоровый, как рязанский боров,
но утонченный на предмет
стиха, прими сей панегирик —
элегик, батенька, идиллик.
Когда ты бил официантов[42],
я мыслил: разве можно так,
имея дюжину талантов[43],
иметь недюжинный кулак.
Из темперамента иль сдуру
хвататься вдруг за арматуру.
Они кричали, что — не надо
Ты говорил, что — не воруй.
Как огнь, взметнувшийся из ада,
как вихрь, как ливень жесткоструй —
ный, бушевал ты, друг мой милый.
Как Л. Толстой перед могилой.
Потом ты сам налил мне пива,
орешков дал соленых мне.
Две-три строфы[44] неторопливо
озвучил в грозной тишине.
И я сказал тебе на это:
«Вновь вижу бога и поэта»[45].
…Как наше слово отзовется,
дано ли нам предугадать[46]?
Но, право, весело живется.
И вот уж я иду опять
в сей бар, единственный на свете,
предаться дружеской беседе[47].
«В те баснословнее года…»
В те баснословнее года
нам пиво воздух заменяло,
оно, как воздух, исчезало,
но появлялось иногда.
За магазином ввечеру
стояли, тихо говорили.
Как хорошо мы плохо жили,
прикуривали на ветру.
И, не лишенная прикрас,
хотя и сотканная грубо,
жизнь отгораживалась тупо
рядами ящиков от нас.
И только небо, может быть,
глядело пристально и нежно
на относившихся небрежно
к прекрасному глаголу жить.
Офицеру лейб-гвардии Преображенского полка г-ну Дозморову, который вот уже десять лет скептически относится к слабостям, свойственным русскому человеку вообще
Ни в пьянстве, ни в любви гусар не знает меру,
а ты совсем не пьешь, что свыше всяких мер.
…Уже с утра явлюсь к Петрову на квартеру —
он тоже, как и ты, гвардейский офицер.
Зачем же не кутить, когда на то есть средства?
Ведь русская гульба — к поэзьи верный путь.
Таков уж возраст наш — ни старость и ни детство —
чтоб гаркнуть ямщику: пошел куда-нибудь!
А этот и горазд: «По-о-оберегись, зараза!» —
прохожему орет, и горе не беда.
Эх, в рыло б получил, да не бывать, когда за
евонною спиной такие господа.
Я ж ямщика тогда подначивать любитель:
зарежешь ли кого за тыщу, сукин сын?
Залыбится, свинья: «Эх, барин-искуситель…»
Да видно по глазам, загубит за алтын.
Зачем же не кутить, и ты кути со мною,
единственная се на свете благодать:
на стол облокотясь, упав в ладонь щекою,
в трактире, в кабаке лениво созерцать,
как подавальщик наш выслушивает кротко
все то, что говорит ему мой vis-а-vis:
«Да семги… Да икры… Да это ж разве водка,
любезный… Да блядей, пожалуй, позови…»
Петрову б все блядей, а мне, когда напьюся,
подай-ка пистолет, да чтоб побольше крыс
шурашилось в углах. Да весь переблююся.
Скабрезности прости. С почтеньем. Твой Борис.
«До утра читали Блока…»
До утра читали Блока,
Говорили зло, жестоко.
Залетал в окошко снег
с неба синего как море.
Тот, со шрамом, Рыжий Боря.
Этот — Дозморов Олег —
филолог, развратник, Дельвиг,
с виду умница, бездельник.
Первый — жлоб и скандалист,
бабник, пьяница, зануда.
Боже мой, какое чудо
Блок, как мил, мой друг, как чист.
Говорили, пили, ели.
стоп, да кто мы в самом деле?
Может, девочек позвать?
Двух прелестниц ненаглядных
в чистых платьицах нарядных,
двух москвичек, твою мать.
Перед смертью вспомню это,
как стояли два поэта
у открытого окна:
утро, молодость, усталость.
И с рассветом просыпалась
вся огромная страна.
«Мальчик пустит по ручью бумажный…»
Мальчик пустит по ручью бумажный
маленький кораблик голубой.
Мы по этой улицы однажды
умирать отправимся гурьбой.
Капитаны, боцманы, матросы,
поглядим на крохотный линкор,
важные закурим папиросы
с оттиском печальным «Беломор».
Отупевший от тоски и дыма,
кто-то там скомандует: «Вперед!»
И кораблик жизни нашей мимо
прямо в гавань смерти поплывет.
«Евгений Александрович Евтушенко…»
Евгений Александрович Евтушенко в красной рубахе,
говорящий, что любит всех женщин, —
суть символ эпохи,
ни больше, не меньше,
ни уже, ни шире.
Я был на его концерте
и понял, как славно жить в этом мире.
Я видел бессмертье.
Бессмертье плясало в красной
рубахе, орало и пело
в рубахе атласной
навыпуск — бездарно и смело.
Теперь кроме шуток:
любить наших женщин
готовый, во все времена находился счастливый придурок.
…И в зале рыдают, и зал рукоплещет.
«Жалея мальчика, который в парке…»
Жалея мальчика, который в парке
апрельском промочил не только ноги,
но и глаза, — ученичок Петрарки, —
наивные и голые амуры,
опомнившись, лопочут, синеоки:
— Чего ты куксишься? Наплюй на это.
Как можно убиваться из-за дуры?
А он свое: «Лаура, Лаурета…»
«Я слышу приглушенный мат…»