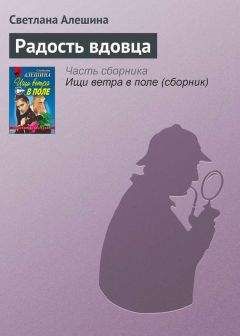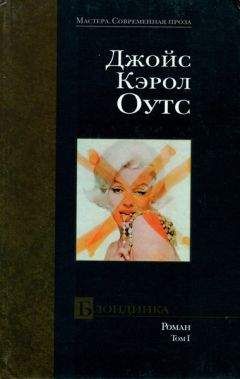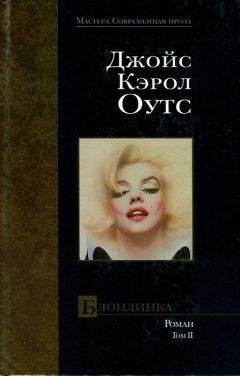Элла Фонякова - Хлеб той зимы
— Сначала мы попросили маринованных грибков… Белые, представляете?
Потом солянку мясную. Ленка, ты даже не знаешь, что это такое. Жирная, с маслинами и сосисками, и баранина, и почки всякие… И горячая она — рот обожжешь. Ну и, конечно, на второе — котлету по-киевски. Белая курятина наверчена, а внутри кусок холодного сливочного масла. Нет, вы подумайте только, масло было холодное, а котлета сама с пылу с жару! Оля, то-то помнишь?
— Помню, а что толку, — трезво отзывается мама. — Себя только растравлять.
Но я готова слушать папу часами.
И вот мы приближаемся с ним к этой знаменитой «Квиссисане». Стеклянные витрины, где золотом выведено название ресторана, заложены мешками с песком.
Однако дверь открывает высокий швейцар в ливрее, которая, хотя и висит на нем, как на вешалке, тем не менее выглядит внушительно. Широкое зеркало благородного желтоватого оттенка, пальмы в кадках, красные бархатные драпировки.
— Будьте любезны, — вежливо приглашает швейцар. — Во втором зале есть свободные столики.
— Блокада, блокада, а марку держат, — восхищенно говорит папа. — Я знал, куда прикрепиться.
У меня возникает сумасбродная мысль: а вдруг нам сейчас подадут киевскую котлету? Или солянку?
В кассе мы выбиваем талоны и садимся за стол, покрытый белоснежной скатертью. Тяжелые тарелки, массивные блестящие ложки и вилки.
— Давай, Ленка, вообразим, что мы в довоенном ресторане, — предлагает папа, словно угадывая мои тайные помыслы.
И мы начинаем увлекательную игру. На закуску нам приносят шроты.
— Какой отменный салат, — говорит папа.
— И сколько сметаны! — отзываюсь я. — Как им не жалко!
Традиционная хряпа сходит у нас за грузинский суп-харчо.
— Остро слишком, — жалуется папа. — Чуть бы поменьше перцу.
— Да нет, в самый раз.
Котлеты из дуранды мы встречаем бурным ликованием.
— Нигде не умеют приготовить свиную отбивную так, как здесь! А гарнир?
Всего в меру — и картошечки-фри, и спаржи, и цветной капусты… Э, Ленка, Ленка, так не годится! Ты не умеешь играть…
Ткнувшись папе в плечо, я отчаянно плачу. Дуранда не выдержала конкуренции со свиной отбивной.
— Пошли домой, маленькая, — тихо говорит папа. — У меня там для тебя кое-что припрятано.
Ящик, принадлежащий другу
Я просыпаюсь от шума в квартире. Горит коптилка. Из коридора доносится резкий голос Зинаиды Павловны:
— Что же это творится?! Грабеж среди бела дня!.. «Где же бела, когда сейчас темная ночь», — сонно размышляю я.
Входит полуодетая мама. Лицо у нее растерянное.
— Федя, она сказала, что никому не верит. Неужели она сможет и на нас подумать?
Папа очень сердит.
— От нее всего ждать можно.
Он идет в коридор, пробует успокоить соседку.
— Ящик принадлежит моему другу, — негодует Зинаида Павловна. — И вы мне, Федор Данилыч, ничего не говорите. Я так этого не оставлю. Я тут всех выведу на чистую воду!
Ага! Макароны пропали! Так ей и надо. Но кто же в самом деле мог их подхватить?
На другой день я с нетерпением жду милицию. Наверное, это будет детектив в шляпе, с револьвером в боковом кармане. Вроде Шерлока Холмса. Он пройдет по всем комнатам, исподволь выведывая разные подробности у жильцов. Поскольку я твердо знаю, что ящик никто из наших украсть не мог, за исход расследования я спокойна. Но сыщик не приходит — ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра.
Роль детектива берет на себя сама Зинаида Павловна. По вечерам она с карманным фонариком, крадучись, пробирается по коридору, изучая следы на паркете. Какие-то царапины ей удается обнаружить, о чем она и сообщает нам с торжеством. Но загвоздка в том, что царапины есть и у нашей двери, и возле покоев Раппапорта, и на пороге комнатушек многодетной семьи. Кто же похититель?
На подозрении вся квартира.
— Жить противно, — говорит папа.
Ранее вежливая, Зинаида Павловна теперь внезапно, без всякого стука, распахивает нашу дверь. Она, как ищейка, делает круги по комнате, принюхиваясь к углам, воздуху. Если в это время мы готовим что-нибудь на буржуйке, она, как бы невзначай, смахивает рукавом халата крышку с кастрюльки. И небрежно извиняется:
— Ах, простите, я так неосторожна…
Мама в таких случаях сидит подавленная, беспомощно положив руки на стол. Она больше не ходит к Зинаиде Павловне на «вышиванье» и чаепитие.
Атмосфера сгущается. Проклятые макароны вносят разлад в нашу, прежде довольно дружную квартиру.
— Сама спекульнула, а на нас взвалить хочет, — высказывает предположение прямодушная тетя Соня.
— Ну, зачем так плохо думать о людях? — возражает мама. В отличие от Зинаиды Павловны, она продолжает всем верить.
Потерпевшая ежедневно обходит дозором квартиру. Она приникает к замочным скважинам, задает «неожиданные» вопросы:
— Что ты утром кушала, Леночка? Только соевое молочко? А может, уже не помнишь, может, еще что было?
— Как это «не помнишь»? — недоумеваю я. — Прекрасно помню.
И зачем такую ерунду спрашивать? Разве можно позабыть, что ты ел? Да я за всю зиму, день за днем, могу свое меню рассказать!
Как-то, совершая пробег в сторону кухни, я натыкаюсь на Зинаиду Павловну. Прижавшись к стене, она стоит в карауле у раппапортовских дверей.
А однажды, случайно, становлюсь свидетельницей диалога Зинаиды Павловны и дяди Саши.
— Александр Данилыч! Отчего вы так упрямитесь? Вы же знаете, как я скучаю. Приходите завтра вечерком, и я больше не заикнусь об этом ящике. Я другой достану — для вас…
— Не надо, Зинуша, не надо мне ваших ящиков…
Ящик так и не сыскался. Тайна его исчезновения похоронена в недрах большой блокадной квартиры. Возможно, права была тетя Соня. Возможно, ящик-таки взяли терявшие рассудок от голода многодетные. Кто мог бы стать им судьей? Но утверждать ни того, ни другого я не берусь.
Казнь для гитлера
Однажды утром папа принес номер «Ленинградской правды» и сказал:
— Гитлера убить мало! Почитайте, что он с нашими людьми творит.
В газете — сообщение о немецких зверствах на оккупированных территориях. Выколотые глаза, головы детей, размозженные об угол дома, заживо погребенные, виселицы…
Я слушаю, как тетя Соня прерывающимся голосом читает вслух газету, и чувствую, как меня — это почти физическое ощущение — переполняет чувство отвращения и горя. Все, о чем читает тетя Соня, я вижу так подробно, так живо, что затыкаю уши руками — чтобы не слышать воплей замученных. А как бы кричала я сама, если бы меня стали пытать такими пытками?