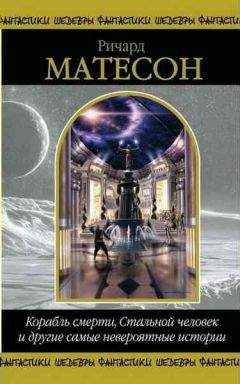Лексикон света и тьмы - Странгер Симон
Нацисты запустили в оборот слово «йоссинговец» как ругательство, как клеймо, но участники Сопротивления подхватили его и превратили в похвалу, в знак почёта. В итоге многие нелегальные газеты стали называться «Йоссинговец».
K
К как Кислев, месяц, когда празднуется Ханука. В последних числах 1950 года Эллен Комиссар идёт праздновать Хануку к Марии, в её новую квартиру. Гершон и Яннике, рука в руке, легко шагают по лестнице впереди неё, но Эллен на восьмом месяце, ей вот-вот рожать. Она погрузнела, при каждом шаге бедро касается живота, она чувствует, что опять сползли нейлоновые чулки, доставшиеся ей из «Париж-Вены», Эллен засовывает руки под пальто, сквозь платье нащупывает резинку и тянет её наверх.
Она идёт, вцепившись в перила. Но вдруг прилив, Эллен бросает в жар, по спине течёт пот.
Она останавливается и распахивает пальто, чтобы пустить холодный воздух к телу; не хватало только явиться в гости потной и распаренной, думает она и от страха и смущения потеет сильнее – она не чувствует себя дома в собственном теле. Ощущает себя женщиной не красивой, а страшно раздувшейся, с руками и ногами до того отёкшими, что они похожи на брёвна. Что в этом может быть красивого, думает она, преодолевая последний пролёт. Гершон уже ждёт её на площадке, он поднял дочку и посадил себе на бедро.
– Всё в порядке, Эллен? – обращается он к жене, и Эллен кивает, подняв на него глаза. Как же он хорош в этом шарфе! А скоро ведь опять начнётся: она будет валяться в постели, затуманенная постоянным кормлением грудью и недосыпом, со следами детской отрыжки на сорочке, уродливая развалина, а он тем временем будет общаться с прекрасными дамами из тронхеймского бомонда, теми, кто может позволить себе импортную одежду или шляпку на заказ по собственному эскизу. Конечно, я ему надоем, думает она и вспоминает собственного отца, который недавно сошёлся с секретаршей, бросил мать, и та уже не одну неделю приходит в себя в психиатрической клинике под Осло. По-хорошему, мне надо быть сейчас рядом с ней, думает Эллен, хотя бы навестить её, но куда тут поедешь, когда вот-вот рожать. Ещё секунда, и она сдаст оборону, сядет на ступеньку и разрыдается, но нет, так нельзя, она обязана через силу улыбнуться Гершону. Сказать, что всё хорошо. Я должна быть сильной, должна помнить, что мне повезло, повезло, повезло, твердит она про себя и улыбается Яннике, та смотрит на неё сверху сквозь перила. Очаровательная малышка с сияющими глазами и чёрными вьющимися волосами. Эллен доходит до двери. Гершон кладёт руку ей на спину – наверняка из лучших побуждений, но у меня же вся спина мокрая, думает Эллен и стряхивает его руку. И сразу робко улыбается и хочет взять его под локоть, объяснить, что она не имела в виду ничего плохого, когда так резко отстранилась от него, но он уже закрылся в себе. Взял Яннике на руки, а Эллен будто и вовсе не существует.
Они звонят, дверь им открывает сама Мария. Она перевозбуждена и оттого выкрутила регулятор обаятельности далеко за максимальную отметку. Слишком широко улыбается, слишком громко говорит, внезапно даже принимается смеяться, и так всё время, пока они снимают верхнюю одежду; наконец она провожает их к столу, они пришли последними. Эллен садится сама, сажает рядом Яннике и начинает есть. Она надеется, что застольная беседа её отвлечет. Главное, не думать на таких семейных сборищах о сестре, которой ей ужасно не хватает. Она и так вспоминает Грету много раз на дню. С Гретой они близняшки, та поняла бы её сразу. С одного взгляда увидела бы, что Эллен несчастна, но, что самое важное, не стала бы осуждать её за сомнения, за предательские мысли и за то, что она не в состоянии всё время быть благодарной, что уцелела в войну, а теперь живёт в хорошем доме.
Эллен тянется за бокалом, ловит на себе неодобрительный взгляд Гершона, но один-то глоточек вина можно. Потом кладёт себе картошку с блюда, Мария ещё раз спрашивает, как она поживает, и Эллен надевает самую любезную улыбку.
– Спасибо, я поживаю отлично. Вы же знаете, как мне повезло! – говорит она, улыбаясь Гершону, и секунду сама в это верит.
К как Коммивояжёр, новая работа, благодаря ей Риннан восстаёт из экономических руин и выбирается из Дома призрения бедняков. Некий Эрнст Пароф нанимает его в свою транспортную компанию, чтобы Риннан объезжал на машине с товарами все окрестности Левангера, каждый хутор, каждый дом. Работа позволяет Риннану снова планировать нормальную жизнь, но теперь обычной жизни ему недостаточно. Он хочет чего-то другого, большего, и хотя он по-прежнему ходит в кафе трезвенников, однако не для того, чтобы посидеть с другими, травя байки, нет, такая ерунда его уже не интересует. Теперь перед походом в кафе он читает газеты и журналы, а потом невзначай задаёт вопросы другим посетителям, чтобы указать им их место.
– Как называется столица Боливии, знаешь? Ага, не знаешь.
Или:
– А кто в курсе, что значит слово дискрепанс? Никто? Так я и подозревал.
И тут главная радость – заставить их почувствовать смущение и неуверенность. Смотреть, как они бекают-мекают, отводят глаза, как показывают свою слабость, когда пытаются дать ответ. Налюбовавшись на их никчёмность, он уходит. Очередные доказательства, что он всех умнее, получены, а большего ему не надо.
Иной раз он даже думает, что можно бы и просто посидеть с ними в кафе, как раньше, но только зачем?
Риннан ездит от хутора к хутору, продаёт товары. Вступает в разговоры, узнаёт имена хуторян, это пригодится потом, чтобы торговля шла бойчее. Но он узнаёт и многое другое. Например, политические взгляды людей. Тайная информация, о бесценности которой он пока не осведомлён.
Начинается Зимняя война, финские солдаты сражаются в снегах с русскими коммунистами, прячутся за валунами и большими деревьями, одетые в снежно-белые халаты. Он закрывает вечером глаза и живо представляет картинку: безмолвный русский зимний пейзаж. На свежем снегу только заячьи следы, под ёлками темнеет древесная труха – то ветер содрал кору или же постарались маленькие лапки белки, взбиравшейся наверх. Полная, полная тишина. А потом из снега встаёт он, всеми не видимый, и стреляет.
Многие хотели бы поехать на эту войну. В Левангере открылся вербовочный пункт. Хенри отстаивает очередь и сообщает, что очень хотел бы разгромить коммунистическую угрозу, идущую с Востока, и что он ни капли не боится, потому что он и правда не боится. Наоборот, его тянет на войну.
Всех добровольцев взвешивают и измеряют рост, даже Хенри, сколько он ни доказывает, что в этом нет нужды, исключения для него не делают, и, конечно же, он попадает к женщине. Милой молоденькой девушке с чёлкой и в белом халате, с тонкими руками и сияющими глазами.
Она просит его разуться, подойти к стене и прижаться спиной к ростомеру. Хенри слышит неприятный звук, когда мерную планку спускают вниз с отметки, оставшейся от предыдущего новобранца, наверняка сантиметров на двадцать выше Хенри; наконец белая деревяшка ложится ему на голову, на волосы, нарочно зачёсанные наверх, но эта сестра, разумеется, должна примять их, чтобы планка плотнее прижалась к черепу. Хенри стоит, сжав зубы. Сестра как ни в чём не бывало записывает результаты, проговаривая их себе под нос: «Метр шестьдесят… угу», но он видит, что ей смешно, а её попытки скрыть это унизительны для него вдвойне. Она будто заранее уверена, что если просто сказать вслух метр шестьдесят, то он такого удара не переживёт. Можно подумать, ему не напоминают о его смехотворном росте каждый день и каждый час.
Хенри уходит домой ждать решения. И начинаются вязкие, бесконечные дни, Хенри ничего не делает, только ждёт, когда получит повестку, а с ней и возможность свалить и отсюда, и вообще от всего. Возможность уехать из Левангера, с его заурядностью и мещанскими замашками, на поле битвы, где идёт настоящая борьба и рождаются истинные герои. Он знает и других, записавшихся на войну, но их немного, и Хенри отмечает, с каким уважением встречают в кафе его сообщение, что он идёт добровольцем и что вопрос только в том, когда его отправят.