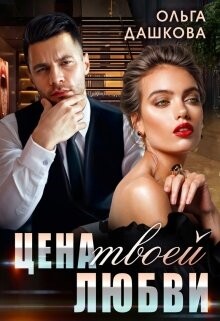Хорея - Кочан Марина
Перед отъездом мы спрашиваем у дяди, можно ли нам взять с собой несколько фотографий отца.
Он категорично мотает головой, нет и нет, они нужны ему абсолютно все. Но как только он отворачивается, тетя Галя машет нам руками, словно гонит в нашу сторону невидимые волны, и мы быстро прячем отложенные фото маленького папы и бабушки Маши в ежедневник сестры.
Через полтора года дядя Юра умрет от ковида. Еще через год, в годовщину его смерти, мы создадим чат с Наташей, его дочкой, которую я никогда не знала. Вместе мы начнем собирать все, что сможем найти о нашей семье. Наташа расскажет о бабушке Маше.
Худенькая, с короткой стрижкой и темными, почти черными волосами, глубоко посаженными темными глазами, она всегда носила белый платок на голове, светлый халат и бежевые хлопковые чулки. Иногда поверх халата надевала жилет или вязаный кардиган, для тепла. Бабушка Маша родилась в Беларуси, но бежала после войны на Север вместе с дедушкой Гришей, ее мужем. Они поселились в Боровом, это под Ухтой. Гриша возил лес, а Маша работала воспитательницей. Заболела, когда ей не было еще и сорока. Во время войны она с другими жителями деревни скрывалась от немцев в лесах и сидела в болоте. В семье будут говорить, что там ее укусил клещ, оттого она, спустя время, и заболела.
Наташа боялась болезни бабушки. Иногда приходилось подходить к ней совсем близко. Та могла задеть девочку неловкими, непроизвольными движениями рук.
Ее трудно было понимать: она плохо проговаривала слова. Она часто ругалась со своим сыном Юрой и грозилась уехать: «У Минск уеду». Разговаривала с белорусским акцентом. Писала письма родным, в Беларусь, но почерк было не разобрать, как и адрес на конверте. Почтальоны приносили их обратно.
Пару раз она уходила. Днем, когда все были на работе и в школе, когда никто не мог ее остановить. Она пыталась куда-то уехать, сбежать. Ее искали и возвращали.
Наташе было десять, когда бабушка Маша умерла. Это произошло днем, пока внучка была в школе.
Она осталась в квартире с мертвой бабушкой одна, родители уехали хлопотать о похоронах, наказали ей не заходить в комнату. Дверь прикрыли, но через щель было видно, что Маша лежит на полу, словно упала и больше не смогла встать.
На обратном пути мы заезжаем на кладбище к папе. Поле заросло травой выше человеческого роста, могилы утонули в ней. Я беру Саву на руки и пробираюсь между оградками. Трава цепляет меня за кроссовки, охотится за мной. Сестра идет по соседней линии. Мы ищем могилу почти час, изредка окликая друг друга, словно боясь потеряться в лабиринте могил. И когда все же находим, сразу беремся за дело: полчаса молча дергаем траву, поливаем отравой, чтобы хоть немного умерить рост одуванчиков и других сорняков, раздвигающих и деформирующих плиты.
Потом мы кладем папе в тарелку еду и наливаем в стопку чистой воды. Моя сестра не пьет. Когда мы на кладбище вдвоем, мы не «поминаем». Мы не говорим с ним, мы не умеем говорить с мертвыми. Мама умеет. Она всегда говорит с папой, но в этот раз она не поехала с нами. И мне не хватает ее. Приглушенно переговариваемся с сестрой о том, что в следующий раз надо бы привезти рассаду цветов, посадить на могиле. Папа любил выращивать всякую зелень, он мечтал о большом огороде и о доме вблизи леса. Прямо на могиле вылез молодой росток березы, и мы решаем оставить его.
Сава сидит в углу возле оградки за памятником и играет двумя маленькими машинками. Я думаю о том, что когда-нибудь я буду рассказывать ему о дедушке, что когда-нибудь он прочтет мою книгу. Мое письмо — неровный, сбивчивый танец. Я танцую и падаю, поднимаюсь и ищу в сумерках своей памяти, на что бы мне опереться. Мое письмо — это хорея, потому что хорея — это состояние моей семьи, отрывистые, беспорядочные, хаотичные движения, попытки склеить то, что еще можно, соединить черепки, которые подходят друг другу.
На кладбище становится ветрено. Скоро пойдет дождь. Я вжимаю голову в плечи, а сестра вдруг притягивает меня к себе и обнимает своим шерстяным кардиганом, помещает меня в теплый домик.
— Сейчас я тебя согрею, — говорит она весело.
«Я люблю тебя», — хочу сказать я, но мою шею словно сжимает чья-то рука. Я обнимаю сестру и кладу голову ей на плечо.
Моя сестра старше меня на двенадцать лет. Девять лет мы жили в одной комнате и спали на одном диване «Наташа». Она подарила мне первый дезодорант, с запахом дыни, и первый хлопковый лифчик, когда у меня еще не было груди. Она купила мне мой первый диск — «Опять-опять» Пятницы. Она рассказала мне про свой первый секс. И я позвонила ей, когда случился мой. Она говорила, переезжая в отдельную квартиру, что я всегда смогу к ней прийти. И я приходила. Поздно вечером и даже ночью я приходила много раз, когда нужно было куда-то деться. Она знает меня с рождения. Но мне еще много о чем нужно ее спросить. Хорошо, что мы научились разговаривать.
Когда мы садимся в машину, она пишет в заметках телефона подробную схему, как найти могилу отца. От главной дороги нужно свернуть на первом повороте, как раз там, где заканчивается лес и начинается поле. Затем пройти три мостка и свернуть на четвертом. А там растет рябина на соседней могиле. Деревья на могилах — это редкость, но некоторые сажают их специально, чтобы было проще находить своих. Олеся скидывает мне скрин из заметок: «Пусть у тебя тоже будет на всякий».
— Я тебе рассказывала историю про нашу фамилию? — спрашивает она, когда мы едем домой.
Один раз она пришла домой из школы расстроенная: ее там задразнили из-за фамилии (и мне это знакомо). Тогда папа предложил ей взять чистый лист и ручку. Вместе они сели и составили на листке список с фамилиями одноклассников. И каждому он подобрал дурацкое прозвище.
Мне нравится наша фамилия. В папином паспорте перепутали букву, вместо «а» написали «о». Я часто шутила, что у нас теперь нет родственников. Маленькое семейство кочанов. Крепкие капустные корни в земле.
Я сижу на переднем сиденье, рядом с сестрой. Обычно она водит резко, дергано, иногда тормозит в последний момент. Но сейчас мы едем медленно и спокойно. Я пристально смотрю на ее кисть, которая держит ручку коробки передач, обхватывает ее и сжимает. У Олеси тонкие длинные пальцы, с двумя серебряными колечками, с аккуратными продолговатыми ногтями. Музыкальные пальцы. Музыка всегда была с ней, с детства. По выходным она ходит в филармонию, берет уроки игры на виолончели и присылает мне видео. Виолончель большая, она обнимает ее ногами, плавно водит смычком по струнам, делая широкий размах. Звук у инструмента глубокий и густой, горловой и печальный. Виолончель сильная, как моя сестра. Они подходят друг другу.
Моя сестра — это виолончель.
Скрипка.
Пианино в нашей гостиной.
Это «К Элизе» Бетховена.
Это кантри-группа Tegan And Sara, звучащая в ее машине.
Это White Flag — Dido.
Это Сan You Feel The Love Tonight Элтона Джона.
Это церковный хор.
— Вот бы нам с тобой еще куда-нибудь съездить вместе, без детей. Давно мы так не делали.
— Да уж, точно. Куда поедем?
— Куда захотим. Главное — найти время.
Да, времени у нас еще много. Я тебя очень люблю.
— Мама, а бывают черные дожди?
Эпилог
В сентябре две тысячи двадцать второго года я увидела на стене вконтакте сообщение: фонд «Редкие люди» анонсировал встречу в Петербурге для людей с болезнью Гентингтона и их родственников. Я написала в сообщество и спросила, могу ли я прийти, если болел мой отец, но я сама не носитель.