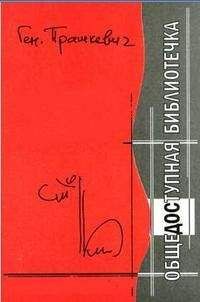Геннадий Прашкевич - Пожить в тени баобабов
– Такой страшный? – испугался Коляка.
– Страшней, чем ты думаешь, – ощерился Игорек. – Он в каком-то месте подсядет тихонечко в твой микроавтобус, а на борту парома так же тихонечко выйдет. «Мерс» ведь у Николая Петровича не досматривается?… Так что ничего тебе и не надо знать об этом человечке. А вот с долгами, – со скрытой угрозой добавил Игорек, – с долгами надо честно расплачиваться.
И сунул руку в карман:
– Сколько?
– А я знаю? – все еще колеблясь, затаился Коляка. Жадность, кажется, в нем побеждала.
И подобрался хищно:
– На сколько тянет тот человечек?
– Ты меня не понял, Коляка. Бабки выдаю я. Бабки ты получишь не с кого-то, а с меня.
– С тебя?
– Вот именно. И сейчас. И наличкой.
– А как же…
– Я уже сказал, не надо тебе никого видеть. Лучше всего, если ты вообще этого человечка никогда не увидишь. Для тебя самого лучше. Он незаметно сядет в «мерс», а потом незаметно выйдет на пароме. Ты никого не видел, ничего не слышал. А я тебе заплачу. Прямо сейчас. Наличкой.
– Сколько?
– Это другое дело. Называй цену.
– Откуда ж мне знать? – жадно заюлил Коляка. – Откуда ж мне знать, сколько за того человечка могут дать?
– Лет десять. Не меньше.
– Ты это кончай! – всерьез испугался Коляка. – Я без шуток. Прогадать боюсь. Посоветуй.
– Держи.
– Сколько тут?
– Четыре сотни.
– Всего-то?
– Марками.
– Да ты чё, Игорек? Ты чё? Четыре сотни! За такое-то дело? Сам говоришь, оно тюрьмой пахнет!
– Для тебя, Коляка, даже Летний сад должен пахнуть тюрьмой.
– Ты такого вслух не говори! Не надо никогда вслух говорить такое! – еще сильней испугался Коляка. – Ты чё такое говоришь? Я же о деле, я помочь хочу, о тебе забочусь и сам не хочу промахнуться, а ты… Не понимаешь, что ли? Мало четыре сотни. За такое дело – мало!
– Не ной. Будто шеф не зарядил тебя?
– Так то ж свое! То горбом отработанное. То к этому не имеет отношения. То свое!
– Отказываешься? – прищурился Игорек.
– Да ты чё, Игорек! Как можно? – еще больше испугался Коляка. – Тебе да отказать! Никак нельзя! Не могу я тебе отказать, Ты только пойми, я же шефа боюсь! Ты вот говоришь, что шеф мне отстегнул. Будто не знаешь шефа. У него во всем экономия. Он и отстегнул-то мне всего сотню. Тех же дойчмарок. Вот, говорит, тебе, Коляка, сразу на все. И на бензин, и на пиво. Только, говорит, не запейся. Сам ведь знаешь, какой веселый нрав у нашего шефа. А я, Игорек, в ремонте. Мне бабки сегодня вот так нужны!
И сплюнул, задергался:
– Соточку хоть добавь.
– Соточку добавлю, – кивнул Игорек. – Держи.
И спросил:
– Где подсаживать человечка?
– Сюда его приводи.
– Во сколько?
– К восьми.
Дергаясь, подмигивая, приговаривая что-то, Коляка жадно спрятал деньги в потрепанный бумажник.
– Это только для тебя, Игорек, – приговаривал он. – Только для тебя. Сам понимаешь. Приводи своего человечка к восьми. В это время в боксе обычно никого нет. Я, значит, дверь микроавтобуса оставлю открытой. Мало ли? Забыл. Пусть твой человечек незаметно лезет в салон, закрывается и сидит там тихо, как мышь. Без единого звука! Там кое-какое тряпье есть в салоне, пусть укроется. Стекла тонированные, но пусть он не торчит на сиденье. Пусть приляжет, только без храпа. После восьми я заглядывать в «мерс» больше не буду, сразу погоню его на паром. Но на пароме, Игорек, пусть твой человечек из машины сразу линяет. Мне ни лагерь, ни тюрьма, ни конфискация имущества не нужна, сам знаешь. Так что, успевай к восьми.
– Я успею.
Был тихий вечер, вечер бала,
был летний бал меж темных лип,
там, где река образовала
свой самый выкуплый изгиб…
Выкуплый.
Именно – выкуплый.
Игорек зло рассмеялся.
Суеверно притронулся рукой к «беретте», аккуратно и привычно заткнутой за пояс. Нежный холодок металла успокаивал. Хорошая машинка, надежная машинка, сглотнул слюну Игорек. Вызолоченный курок, хорошо пристрелян. Бой точней, чем у щвейцарских часов. Серега Кудимов на подарки никогда не скупился. Если уж подарок, то вещь.
А должок этот бык мне еще вернет, вдруг вспомнил Игорек Валентина. Сегодня он мне помог, и сегодня я ему помогу. Тут все путём. Тут нет слов. Но свой должок он мне вернет. Должок за унижение. За беседу с жадным Колякой. За потерянный пистолет, который, правда, он же мне и вернул… И за Хисаича… И вообще, за все… Убить не убью, но за все эти унижения я оставлю быку отметину на черепе.
Закон чести прост. Ты мне, я тебе.
Игорек зло сплюнул.
А крематорий…
Ну, тут сложней… Это, конечно, сложней… Он не спорит, тут придется самому платить… Тут счет особый… Тут совсем не шуточный счет… Это хорошо, если бык всерьез настроен на шефа… Не надо, пожалуй, мешать быку… Пусть упрется рогом, пусть попробует повалять шефа… Может, и поваляет… Вот только забодать…
Нет, решил Игорек, покачав головой, не сможет забодать этот бык шефа. Здоров, конечно, вон как дверь у Утковой вышиб! Но чтобы забодать шефа необходимы мозги, а не рога. А с мозгами у этого быка напряженка. По всему чувствуется.
А раз так, окончательно решил Игорек, если есть сомнения в быке, значит стоить проверить пристрелянное местечко на морвокзале. Других решений теперь нет. Если шеф в ближайшее время не сыграет в ящик, в ящик придется сыграть ему, Игорьку.
Игорек захолодел от ненависти.
Выжал газ, бросил машину в левый ряд, выругался:
– Козлы!
Но странно, чуть ли не впервые в своей жизни Игорек почувствовал что-то вроде глухой, неясной, но благодарности к совсем незнакомому ему человеку. Этот человек чуть его не покалечил, отнял оружие, мог убить его в том же крематории… Но вот…
– Козлы!
Игорек обоими кулаками ударил по рулю:
– Козлы!
Он не знал, почему козлы? Кто козлы? Зачем козлы? Просто чувствовал – козлы! И все тут!
– Подожди, подожди! Директор крематория? – странно удивился, даже моргнул Куделькин.
Они уже час сидели на скамеечке в нелюдной аллейке.
Валентин кивнул:
– Ну да. Шадрин Николай Петрович. Наверное, помнишь его? Курировал в свое время сборную.
– Ох, Валька…
Куделькин вдруг побледнел.
Валентин представить себе не мог, что Джон Куделькин, бывший тяжеловес, а нынче полноценный рубщик мяса, человек, известный в своей среде как Джон Куделя, всегда умеющий припугнуть кого надо, может так побледнеть, но Джон действительно побледнел.
– Ох, Валька! Ох, тесен мир!
– О чем ты?
– Вот честно, Валька, как на духу! Сразу откроюсь. Знал бы, что речь пойдет о Николае Петровиче… – Куделькин опасливо огляделся вокруг. – Знал бы, что речь пойдет о Николае Петровиче, в жизнь бы не прилетел в Питер…
– Ты что, серьезно?
Куделькин кивнул.
Валентин изумленно поднял глаза.
Испуганного Куделю он видел впервые.
Всяким ему приходилось видеть Куделю – и поверженным, после проигрыша на ковре, и ликующим, после выигрыша, и пьяным вдрызг, и свирепо дерущимся, и не в меру хвастливым… Но испуганным… Испуганным Валентин видел Куделю впервые.
– Ты что, серьезно? – повторил он.
Куделькин смятенно выпучил серые воловьи глаза:
– Ох, Валька! Я-то считал, что никогда больше не пересекусь с Николаем Петровичем.
И пригнулся, зашептал быстро, негромко, чуть не в ухо:
– Слушай сюда, Валька. Тебе можно. Ты должен знать. Год назад подвалил ко мне на рынке один фрайер. В приличном костюмчике, в очечках. Весь такой плешивенький, аккуратненький, уважительный. Ну, весь такой из себя. Я, говорит, к вам, Джон Гаврилыч. Мне, говорит, вас сильно рекомендовали, Джон Гаврилыч. Спрашиваю, кто рекомендовал? Он говорит, питерские друзья. Спрашиваю, чего надо? А он смеется уважительно, весь в очечках, плешивенький, аккуратненький, и без всяких слов заряжает мне сразу пять штук. Это, говорит, только для начала. Позже, говорит, еще столько получишь. Это где ж позже? – спрашиваю. А в Питере. Есть там один серьезный разговор в Питере, подстраховка нужна. Я прикинул: в руках пять штук, светит столько же. А что, говорю. Если нормальный разговор, если нормальная подстраховка, нет проблем, прокатимся. Спрашиваю на всякий случай: без стрельбы? Да ну, смеется, какая стрельба? Просто разговор одного интеллигентного человека с другим интеллигентным человеком. На том и порешили. И я, Валька, дурак, прикатил в Питер. Взял тачку, подъехал к указанному санаторию. Прости, к крематорию. Ну, крематорий как крематорий, мне до лампочки. Хоть церковь. Вошли. Мой плешивенький с Николаем Петровичем обнимается, целуется, ну прямо друзья не разлей вода. Прошлое вспоминают. То да се, да еще это. Мне-то что? Я сижу в сторонке, не прислушиваюсь, даже как бы прикемарил немножко. На Николая Петровича внимания не обращаю. Мало ли, что раньше встречались. Жизнь, она штука хитрая, и разведет, и сведет. Но настороже сижу, конечно, настороже. Сперва все в лучшем виде, а потом чувствую, пошла напряженка. Я глаз, значит, глаза приоткрыл, мало ли что? Гляжу, а мой, тот, что плешивенький и в очечках, окрысился, трясет перед Николаем Петровичем какими-то бумажками. А директор крематория, ну, Николай Петрович, он так ласково, но как бы и с укором, напирает. Ты, напирает на плешивенького, Федя, значит, подслушивал мои разговорчики, баловался запрещенной законом техникой? Ты, напирает на плешивенького, Федя, значит, копил на меня всякие документики? Нехорошо, Федя. Ох, недооценил я тебя! И совсем уже ласково, с улыбочкой добавляет: ну, ладно, признаю, прав ты, Федя! А раз признаю, значит, и заплачу сполна. Свои же люди, сочтемся. Нам и дальше жить в одной стране. Если ты, конечно, не собираешься слинять за бугор. Мой Федя даже обиделся. Он? За бугор? Да ему самая поганая родная березка родней масличной рощи! Не знаю, что за роща такая масличная, не коровы же ее насрали, но Николаю Петровичу это страшно понравилось. Он ласково так говорит: ты, дескать, меня заловил, Федя. С меня теперь, дескать, причитается, Федя. Я твои условия принимаю, кроме одного. Платить не в три приема, а в один, сразу. И ту же сумму. Устроит тебя такое? Федя даже не верит: а ты сможешь разово такую сумму выплатить? Ну, а как иначе? – говорит Николай Петрович. Конечно, смогу. Меня именно такой вариант устраивает. Чтобы разом, и чтобы без никаких продолжений. Чтобы, значит, никогда больше, Федя, такой разговор между нами не возникал. После таких слов, Валька, в кабинете аж сразу просветлело. Пусть будет по-твоему, разово, радуется Федя. Что мы, не люди? Я, радуется, сейчас получу свое, и все! Никогда больше, дескать, не появлюсь на горизонте. И вообще, говорит, Коля, если бы не нужда!.. Ну, короче, сторговались они, Николай Петрович вышел из кабинета, мой в очечках оперную арию от полноты чувств насвистывает, мне подмигивает – дескать, вот и все дела! Просто разговор одного интеллигентного человека с другим интеллигентным человеком. И я, понятно, радуюсь: накинет мне фрайерок на радостях пару штук! А тут, Валька, двери распахиваются, и трое, как в кино. Двое с пушками, один без пушки. Но тому и пушки не надо. Крепыш, вроде нас с тобой. Его одного я бы еще повалял, но те-то двое – с пушками! Стволы нам в затылок и вниз по металлической лесенке. Как скотов в пароходный трюм. Лесенка подо мной прогибается, иду и думаю: купился, дурак, на пять штук с доплатой! А внизу помещение, плита такая на поршнях, и печь за высокой ширмой. А на табурете не строганном сидит Николай Петрович. Уже не улыбается, уже строгий. Я, говорит, Федя, все тут обдумал. Я, говорит, Федя, из вверенных мне родиною больших денег на себя не использовал ни цента. Я даже во много раз умножил эти большие деньги. Это ж, говорит, не наши деньги, Федя. Они у меня хранятся для Дела. Мало ли что говорят вожди на баррикадах. Будущее, оно строится не на баррикадах, а в тихих закромах, незаметно. Эти деньги, Федя, они, может, позволят нам всем впредь вообще обходиться без баррикад. Значительно так произнес. И спрашивает: где, Федя, главные документики? Федя, понятно, осознал – его солнышко закатилось. Бросился в ноги Николаю Петровичу: я пошутил, дескать, Коля! пошутил, родимый! Ну, пошутил и пошутил, строго говорит Николай Петрович. Где главные документы? А документы, говорит мой плешивенький Федя, они глухо укрыты. Так, дескать, глухо укрыты, что ты, Николай Петрович, можешь спать спокойно – никто никогда не докопается до тех документов. Где укрыты? А там-то и там-то. Раскололся мой фрайерок. Николай Петрович кивнул: вот мы сейчас проверим твою правду, Федя, и сразу отослал каких-то людей по указанному адресу. А ты, Федя, говорит, отдохни пока. И закатывают они, Валька, на моих глазах моего аккуратненького фрайерка в гроб. Самым натуральным образом закатывают. Даже очечки ему туда бросили. А крышку напрочь заколотили. Федя постанывает в гробу, плачет по-детски, а Николай Петрович кивает своей команде – действуйте, мол! И ручкой делает. А сам Федю как бы даже успокаивает сквозь крышку: да брось ты, Федя, не стони. Ты же, Федя, кадровый офицер, ты многое видел. Полежи в гробу, пока мы проверим твою правду. Ты ведь не врешь с документами? Не вру, Коля, кричит из гроба плешивенький, не вру, родной! Ну, под эти нежные Федины стенания гроб и закатили в огонь. У меня, не поверишь, волосы дыбом. Ты не поверишь, а мне все это до сих пор снится. Бывает, что ночью криком кричу. Нинка моя не раз уже говорила: не жалей, дескать, денег, сходи к психиатру. А как я пойду к психиатру? Денег я не жалею, но только что я расскажу психиатру? Так, мол, и так, расскажу, что на моих глазах человека живьем в гробу в огонь закатали?