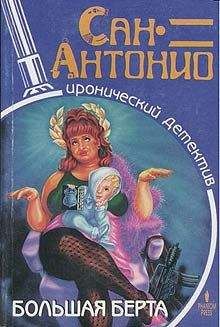Оксана Даровская - Браво Берте
– Верю, конечно верю, – отвечала она, вдыхая ветер, застрявший в его черно-рыжих волосах, – все будет так, другие твои балеты будут тоже прекрасны. У тебя ноги, смотри, немного поджили, только суставы еще припухлые.
– А-а, разбитые суставы и пальцы для нас норма. Я типичный балетный наркоман, два-три дня без тренировок – и тело изнывает, требует нагрузки, как очередной дозы.
– Расскажи, что для тебя танец.
Он крепче обнял ее, заговорил торопливо, возбужденно, словно боялся упустить очень важное:
– Танец – пик человеческого творения. Самое животворящее из всех искусств. Сплав поэзии, музыки, живописи, игры. Танец текуч, как воздух, прохладен, как ручей, жарок, как огонь. Природа высшего высвобождения. В танце собраны все земные энергии – горечи, печали, страдания, страсти, в нем они переплавляются в неземное счастье, в восторг, в полет! Вот мыс тобой сидим на этой горе, а вокруг, всмотрись, все танцует – вверху, внизу, задействованы все природные стихии. О танце невозможно рассказать, его надо показывать!
В предпоследний день небо было с утра серым, воздух наполнен предгрозовым озоном, но они все равно решили идти в Тихую бухту. Дорога была безлюдной, в ушах свистели порывы влажного ветра, а как только дошли до места, рухнул проливной дождь. Они спрятались под жиденьким символическим кустом, но вскоре Георгий не выдержал, выбежал из-под хилого укрытия под струи дождя, крикнул: «Смотри, как это будет». Метнулся к кромке взбудораженной почерневшей воды. Любой, кто увидел бы его в эти минуты, решил бы, что он сумасшедший. Буйный сумасшедший, борющийся со стихией разверзшегося неба, с перехлестами водных потоков, порывами ветра. Для нее же он был главной составляющей этой стихии и самым нормальным из тех, кого она знала. Именно такую страсть – всепоглощающего, непревзойденного, рвущегося на свободу таланта – она ценила превыше всего. Иначе зачем тогда жить? Майка облепила его тело. Ветер разметывал, рвал на куски его голос, но до нее успевало доноситься:
«Море им по колено…. И в безумье своем… Им дороже Вселенной…. Миг короткий вдвоем…»
За его спиной, когда он снова простер руки к небу, полыхнула молния. Ничего прекраснее и торжественнее она не видела, и ей казалось, она слышит музыку, ту самую, пришедшую к нему во сне.
– Я посвящу этот балет тебе, моя героиня. – Оказавшись рядом с ней, он сорвал с себя майку, отбросил в сторону, приник к ней мокрым телом…
Он был единственным, с кем она забывала свой артистизм, становясь просто влюбленной до одури женщиной. Она жаждала быть его Евой, в первородной их вакханалии не предвкушая, что скоро станет для него Лилит.
Когда они оторвались друг от друга, сияло солнце, верхний слой песка подсох, море отливало тихой лазурью.
На следующее утро, когда расплачивались с хозяйкой и Берта достала из сумки кошелек, Георгий посмотрел на нее так, что она молча убрала свои рубли назад в сумку.
Поезд у них был вечерний, они сговорились поехать в Феодосию утром, желая погулять по древним улочкам города. Вдоволь набродившись, спустились к набережной и увидели фотографа. Тот, тоже их заприметив, жестом пригласил на съемку.
– Хочешь? – спросила она.
– С детства не фотографируюсь, не люблю статику фотографии, а с тобой хочу, – ответил Георгий, последние слова прошептав ей на ухо.
– На фоне моря желаете? – спросил фотограф.
Они кивнули. Георгий властно развернул ее к себе спиной, обнял, скрестив руки у нее под грудью, припал сбоку головой к ее голове, его подбородок оказался на уровне ее глаз, она слышала его дыхание, ощущала виском легкую его небритость, в ее теле отдавался стук его сердца. Фотограф навел на них объектив:
– Ну же, улыбайтесь! Старичок ФЭД выдает только шедевры!
– Что? Сегодня успеем заполучить? – спросил Георгий, расплачиваясь.
Фотограф, проверив аппарат, удовлетворенно кивнул:
– Считайте, редкая удача, вы на последнем кадре. Зайдите ко мне в фотоателье – во-он в ту дверь – часика через два, выдам вам готовую продукцию. Вам сколько нужно?
– Две.
– 10×15 подойдет?
– Шуруйте 10×15, – кивнул Георгий.
– Добре.
В назначенное время они вернулись к фотоателье, увидели за стеклом, среди прочих, свою увеличенную фотографию. Разомлевший от закатного солнца фотограф сидел на раскладном парусиновом стульчике рядом с распахнутой настежь дверью.
– Не возражаете? – улыбнулся он, прищурив левый глаз, кивнув на самодельную оконную витрину.
– Да нет, нам так с вами повезло.
– Это мне повезло с вами. Красивые пары в дефиците. Обычно как? Либо он ничего, либо она – что чаще. Бывают оба крокодилы. А чтобы так хороши оба?! Редкость! – Он скрылся за дверью, вскоре вынес им снимки в конверте.
И были душный плацкарт поезда «Феодосия – Москва», аромат вареных кур, лука, помидоров, хоровое детское нытье, раздраженные окрики матерей, верхние полки с протянутыми друг другу, крепко сцепленными руками, пыльный, шумный Курский вокзал, родной гул московского метро, недолгое расставание с Георгием, генеральный прогон спектакля и щемящее предвкушение скорого открытия сезона, сентябрьской ПРЕМЬЕРЫ.
Но почему ей так плохо? Она обязана чувствовать себя превосходно. Она вволю наплавалась, вдоволь наелась любимых персиков, а главное, пропиталась этим киммерийским степным ветром, единственным на Земле в своем роде. А ее почему-то подташнивает, ноет низ живота, голова гудит тяжестью каждое утро. Беременность она исключала. Потому что ни с одним из бывших своих мужчин не беременела, нисколько не заботясь о мерах предосторожности. Она решила, что застудилась. «Не стоило загорать в мокром купальнике, и тогда этот ливень…» Но у врача выяснилось, что она беременна, еще с июля.
Почему? Почему именно сейчас, перед премьерой? Перед лучшей ее ролью? Она ничего не скажет Георгию, не станет морочить ему голову бабьими сложностями перед спектаклем. Она решит эту проблему сама. Срочно.
Зал был полон. Прозвучали последние слова Жака Бреля: Je suis mala-а-ade, проплыли над сценой затихающие звуки скрипок. Она замерла, уткнувшись лицом в колени. Пауза тянулась бесконечно. Тишина сдавливала ее тело все сильней. Ее начало знобить, как четыре дня назад, когда вернулась домой от врача. «Неужели провал?» Она сидела спиной к залу и страшилась шевельнуться, разогнуть спину. Но вот тишину разорвал первый мужской возглас «Браво!», несколько одиночных хлопков, рядом с ней упал букет астр, и… в спину ей обрушилась овация.
На театральном сабантуе, проходящем в буфете, Георгий сидел с краю нескольких сдвинутых столов, рядом с Бертой, и жадно ел. Берта понимала – он очень голодный. На другом краю безудержно торжествовал Захаров:
– Грандиозно! Други мои, грандиозно! Сегодняшний фурор – лакмусовая бумажка того, как наш зритель стосковался по подобным спектаклям! Поздравляю! Настоящая творческая победа!
В этот момент в буфете, словно из воздуха, вырос приземистый, в сером плаще и старомодной фетровой шляпе, человек:
– Я, собственно, от Министерства культуры, ну и от себя лично, по горячим, так сказать, следам. Моя фамилия Задорожный, Никита Ильич.
Не предчувствующий беды, полный эйфории Захаров рванулся к нему со своего места, затряс ему руку:
– Очень, очень рады! Прошу, присоединяйтесь, вот сюда, прошу вас, как почетного гостя и дорогого зрителя!
Не снимая плаща, человек уселся за стол, снял и положил рядом шляпу. Захаров распорядился насчет тарелки с закусками, несколько секунд помедлил, затем, залихватски махнув рукой, налил ему водки. Тот, не мешкая, выпил и заговорил:
– Вот что, граждане дорогие, не мир принес я вам, но меч.
Воцарилась мгновенная тишина.
Никита Ильич Задорожный продолжал:
– Именно. Если бы я вернулся из отпуска чуть раньше и вместе с коллегами поприсутствовал на генеральном прогоне, то, будьте уверены, никакой премьеры не состоялось бы!
Труппа хором ахнула.
– Вы ждали услышать дифирамбы? Отнюдь. Нашей зрительской массе, ясное дело, вынь да положь лишнюю любовную интрижку. Она в большинстве своем подоплеки, вероятно, не заметит. Но существует вдумчивое меньшинство. И оно не дремлет. Вот тут-то вы, профессионалы, люди искусства, обязаны быть начеку, отделять зерна от плевел, зрить, так сказать, в корень и не терять лица. В этой связи я хотел бы поинтересоваться у вас, Аркадий Петрович, – нацелился он на изменившегося в лице Захарова, – куда вы смотрели? Вы же худрук, как говорится, главное лицо. Я не понимаю, как вообще утвердили эту пьесу. Хотя лояльность вашего худсовета давно-о хорошо известна, в Министерстве о нем легенды ходят, он просто притча во языцех.
Окончательно сбледнувший с лица Захаров промямлил провалившимся голосом:
– Я не совсем понимаю… может быть, вы поясните…
– Ну-у, не прикидывайтесь несведущим мальчиком! Подоплека лежит на ладони. Почему польский автор? Не возражаю, традиции Сопота, советско-польские контакты, но у нас своих драматургов достаточно. Их надо ставить во главу угла. Дальше – больше… Почему герой уезжает в Париж? Отчего не публикуется у себя в отчизне? Что значит – непризнанный талант? А? Я вам отвечу. Подведу, так сказать, черту. Пассажи подобного рода случаются только в одном случае: когда писатель в своих опусах негативно высказывается о социалистической Родине. Эту же вашу постановку можно расценить как прямой намек на нашего писателя-велико мученика! Примерно с полгода назад и-и-именно на Западе, в Париже, вышел его «Архипелаг ГУЛАГ»! Правдоборец, Нобелевский лауреат, итить его мать, недобитый власовец. Но к высланным предателям будет предъявлен особый счет, у нас, скажу вам, внутренних хватает. В Беляеве на предыдущей неделе разогнали выставку художников-авангардистов. Все газеты трубят об этом. И вы туда же, не отстали?