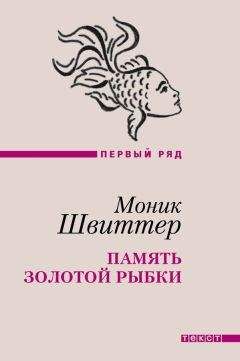Владимир Якименко - Сочинение
— Ты не обижайся только… Пожалуйста, не обижайся. Вы должны наконец показать Демьянову, что не боитесь его. И даже — презираете. Да, да, презираете со всеми его братьями, дружками вместе. Напиться до скотского состояния, впятером наброситься на одного — совсем не геройство. Это скорее знак слабости, трусости. Так поступают только шакалы. Демьянов должен понять это. А вы своим поведением только потакаете ему, подбадриваете даже. Мол, давай, не стесняйся, Витёк! Вот ты говорил вчера — у меня глаза открылись. Ни времени, ни сил не жалела: походы, поездки, вечера… А вернётесь — и снова каждый в свою норку. В конце концов у вас пятнадцать мальчишек в классе… Вам никакой Демьянов не страшен. Но нет, вы не думаете друг о друге. Сегодня тебя… А все — я уверена — стояли рядом равнодушно. Возможно, даже с любопытством тайным глядели. Но ведь завтра Демьянов может каждого из них — Фонарёва, Зубика, Голубчикова… Неужели не чувствуете — жить так дальше нельзя! Невозможно, немыслимо! — Клара Викторовна выпустила Серёжину руку. Она стояла, подавшись вперёд, в сторону входной двери, вытянувшись напряжённым телом, словно говорила не ему только, Серёже, а всему классу, всей школе — всем, всем. Высокий голос её дрожал на пределе, готовый привычно сорваться, перейти в крик или угаснуть, сменяясь беззвучными слезами. — Неужели выросли сытые, благополучные, безразличные к бедам других? Всю жизнь в узкой норке — я, мой, моё, мне… Всё — под себя, всё — для себя! И лишь изредка выглядывать с опасливым любопытством, вынюхивать: какой нынче в воздухе направляющий запах? К чему готовиться, чего ожидать?
Серёжа слушал Клару Викторовну, испытывая смешанное, сложное чувство. Но чем дольше говорила она, тем отчётливее становилось пугающее, властное — стыд и боль.
— Клара Викторовна, зачем вы так? — вскрикнул Серёжа и, развернувшись, быстрыми шагами пошёл, побежал прочь из вестибюля, чтобы не слышать больше, не казниться.
«Как нарочно решила помучить! Мало ей…» — думал Серёжа, взбегая вверх по широкой гулкой лестнице.
По той самой лестнице, по которой бессчётное число раз он бежал, заспанный, опаздывая на уроки, или, напротив, отсидев положенные часы, освобождённый, летел домой, прыгал через три ступени. А ещё раньше, давным-давно когда-то, по этой лестнице в шеренге таких же, как и он, коротко стриженных пухлощёких и румяных первачков, с огромным портфелем, почти достающим до земли, он впервые ступил в эту школу.
…Они только что расстались с родителями. Они были взволнованны, оглушены гулом десятков голосов, испуганы множеством незнакомых людей, снующих туда и сюда по коридорам. Они жались друг к другу инстинктивно, как овцы, почуявшие опасность. Вид их внушал учителям умиление и надежду.
И долгое ещё время, совсем маленькие и глупые, они умели дружить, умели радоваться общей радости и печалиться общей неудаче, наконец, они любили свой класс, свою школу, свою единственную в целом мире учительницу…
В движениях Серёжиных, в стремительном беге его вверх по лестнице обозначилась какая-то цепь.
Серёжа почувствовал: надо что-то сделать, очень важное, необходимое, как воздух. И не только ради себя, но и ради Лёки Голубчикова, ради Зубика… Правда, он не осознавал ещё ясно, что именно требуется совершить.
Он ощущал одно: необходимо действовать немедленно. Иначе в жизни его навсегда останется скверное, гадкое пятно. И возможности избавиться от него уже не представится никогда.
Серёжа остановился на площадке пятого этажа. Дальше бежать было некуда.
Он вернулся на то самое место, где Демьян с дружками схватили его. Тогда он был в полной их власти. Они могли делать с ним всё, что хотели. Его безмолвная покорность только распаляла их. И ещё чувство полной своей безопасности, безнаказанности…
Серёжа шагнул с лестничной площадки в коридор. Музыканты на пределе всей оглушительной громкости, какую они могли выжать из своей электронной многоваттной аппаратуры, твердили одну и ту же, одну и ту же музыкальную фразу, словно с завидным упорством вколачивали её в головы танцующих тяжёлыми молотками.
И в зале, в розоватой полутьме, подчиняясь музыке во всём, заворожённо повторяли бессчётное число раз одни и те же движения извивающиеся тёмные фигурки.
Серёжа подошёл к двери туалета и потянул её на себя, ощутив вдруг в теле странную бесшабашную лёгкость. Как только глаза его немного привыкли к темноте, он увидел красноватые точки сигарет. То тускнеющие, то вновь ярко вспыхивающие, они, как светлячки на невидимых нитях, висели в воздухе.
Серёжа ступил неловко, запнулся о порожек и чуть было не упал. Красноватые точки исчезли разом.
Иссиня-чёрная темнота замерла настороженно. Ни шороха, ни звука.
— Демьян здесь? — как можно громче спросил Серёжа, радуясь в душе, что голос прозвучал на редкость уверенно, не дрогнул ни разу, не осёкся.
Послышалась приглушённая возня, чиркнула спичка.
Выступило из темноты зеленоватое в колеблющемся неверном свете, большеглазое лицо.
— Фу-у, чёрт! Тебе чего, Горел?
Стоило только Серёже увидеть перед собой Демьяна, как решимость его улетучилась разом. Захотелось повернуть назад, убежать, пока не поздно, но недавняя лёгкость тоже исчезла и ноги, отяжелев, приросли к полу. Серёжа презирал себя за слабость, но не было сил, чтобы бороться с собой. С трепетом глядел он, как Демьян, соскользнув с подоконника, подходит, почти не удивлённый его появлением.
— Витёк, за что вы меня? — спросил Серёжа, не узнавая жалкого своего голоса.
— Да вот Голубчик наклепал, — не задумываясь, ответил Демьян. — Сказал, что ты против меня что-то заимел, сочинение писать отказался. Так ведь, Голубчик?
Кто-то щёлкнул выключателем. Вспыхнул свет, и Серёжа поразился, как много ребят набилось в туалет. Прежде всех в глаза ему бросился Фонарёв — с затаённым дыханием он придвигался незаметно к тому месту, где стояли друг против друга Серёжа и Демьян. Замершее лицо Фонарёва выражало волнение, боязнь каким-нибудь неловким жестом, звуком помешать тому, что должно было неминуемо произойти.
— Голубчик, ну, подтверди, — между тем настойчиво повторил Демьян.
Лёка Голубчиков выглядел сейчас так, будто его, спящего, грубо растормошили и он только-только открыл глаза, ещё не придя в себя и ничего не понимая. То с дерзким вызовом, то с жалобной мольбой озирался он по сторонам.
— Ты что-то пута… — начал он неуверенно.
— Да ладно скромничать-то! У меня ведь свидетели есть. Скажи, Паш! — перебил его Демьян. — Но я хочу по справедливости. Чтобы никто не в обиде, чтобы всё — путём. Пусть они стыкнутся, Горел с Голубчиком. Кто победит, тот и прав.
Не успел Серёжа опомниться, как Пашка-Упырь потащил на середину Лёку Голубчикова, а Лёка — тот Лёка, который давно уже привык во всём повиноваться Демьяну, — хоть и упирался, но уже и твердил беспокойно, как в бреду:
— Ниже пояса не бить… Ногами не бить…
И Серёжу тотчас же чьи-то услужливые руки стали подталкивать навстречу Голубчикову. Всё происходящее было настолько нелепо и страшно, что казалось не явью, а кошмарным сном.
И тут Серёжа словно бы проснулся. Неведомая сила подхватила его и бросила к Демьяну. Пальцами ощутил Серёжа жёсткие лацканы Демьянова пиджака.
Изогнулась, подломившись, тонкая шея, голова Демьяна мотнулась назад. Редковатые сальные волосы растрепались, закрыли лицо.
— При чём тут Лёка? — на удивление твёрдо и тихо произнёс Серёжа, краешком глаза замечая, как рванулся было на помощь Демьяну верный Пашка-Упырь и как Зубик, непонятным образом очутившийся здесь, ухватил его за плечи, удержал:
— Стоять!
— Ведь это ты, ты во всём… сволочь! Если хоть раз Лёку… Только пальцем посмей. Понял? Лёка тебе не холуй. И никто не нанимался тебе…
Новое непонятное чувство охватило Серёжу. Теперь он не боялся никого. И только желание справедливости, боль и обида за себя, за Лёку — за всех.
Всё, что происходило и должно было произойти, получило для него совсем иное, чем прежде, значение.
Он не думал о том, что́ может случиться с ним через минуту, через час. Он чувствовал одно: теперь он сильнее Демьяна. Новая жизнь начиналась для него.