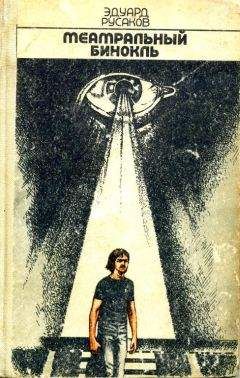Юрий Рытхэу - Белые снега

Обзор книги Юрий Рытхэу - Белые снега
Первым русским учителям посвящается
Пэнкок приставил к глазам бинокль. Горизонт качнулся, белые гребни волн запенились и пришли в движение — послышалось шипение ледяной воды. От Инчоунского мыса до Сенлуквина море было наполнено птичьими стаями. Острокрылые топорки, белогрудые кайры, молодые шилохвосты, гаги с радужными перьями на головах прочерчивали морской горизонт. Иногда в поле зрения попадал далекий фонтан уходящего к югу кита — все живое спешило скрыться от надвигающейся зимы.
Пэнкок перевел бинокль вниз: селение Улак тянулось двумя рядами яранг по длинной галечной косе, которая начиналась у подножия Сторожевой сопки. Оттуда и обозревал Пэнкок морские дали.
Левее сверкал ручей, где жители Улака брали свежую воду. Он впадал в мелководную, но обширную лагуну, сливающуюся на горизонте с топкими тундровыми берегами.
Ближе к скале жили связанные кровным родством энмыралины[1]. Они владели двумя вельботами и тремя байдарами. Один вельбот принадлежал Вамче, другой — Вуквуну; им же принадлежали и две байдары. Третья была у охотника Кмоля, жителя срединной на обитаемой части косы яранги[2]. Окружение Кмоля было беднейшим в селении и не заслуживало внимания.
А вот дальше жили настоящие хозяева Улака. Собственно, он был один — Омрылькот. Те, что поставили свои жилища вокруг огромной яранги Омрылькота — были его родственниками или же просто людьми, которые старались держаться поближе к человеку, чьи два вельбота и три байдары свидетельствовали о могуществе и силе.
Омрылькот был как бы старейшиной села. В его яранге висело три полога, и в каждом — жила жена с детьми. Его младший сводный брат Гэмо недавно приобрел в Номе сборный деревянный домик и поставил рядом с ним высокий столб — мачту потерпевшей крушение шхуны американского торговца Томсона. К вершине мачты он прикрепил бочку — получилась своего рода наблюдательная вышка. Каждое утро Гэмо взбирался на нее и обозревал оттуда морской горизонт.
С лагунной стороны жили остальные люди Улака — в основном потерявшие свои стада оленеводы. Среди них были и переселенцы с побережья Ледовитого океана, где люди часто голодали и даже вымирали целыми селениями. У ручья стояла яранга певца Атыка. А чуть дальше, ближе к морской стороне, — ничем не примечательное внешне жилище улакского шамана Млеткина. Шаман три года провел в американском городе Сан-Франциско и только недавно вернулся в Улак. У него теперь было и второе имя — Франк, которое он употреблял лишь в общении с белыми людьми: торговцами и уполномоченным Анадырского ревкома Петром Хазиным, человеком с маленьким ружьецом в кожаном чехле.
Занятно разглядывать в бинокль родное селение. Вот и своя яранга. Обыкновенная. Правда, в этом году поменяли старую моржовую покрышку, и теперь новая выделялась ярким желтым пятном среди черных, закопченных и задубевших от морских брызг, дождей и снега. С подветренной стороны сидела мать и резала на ремни пахучую и скользкую лахтачью кожу, которую, как обычно, долго держали в воде лагуны, потом в деревянной кадке с мочой. Известное дело, не будешь торопиться, выдержишь хорошенько — ремень выйдет прочный и упругий. Матери помогал Тэгрын. Его яранга тоже со стороны лагуны. Тэгрын вместе с Млеткыном был в Сан-Франциско и, помнится, вернувшись, захотел купить собственный вельбот, но царский исправник Кобелев рассудил по-своему — взял да и отобрал деньги у Тэгрына, а его самого за нежелание поделиться с царем американскими деньгами отправил в Петропавловскую тюрьму. Правду сказать, жители Улака недоумевали: выходило так, что русский царь нуждался во всем — ведь исправник от его имени брал шкурки, моржовые клыки, не брезговал новыми торбазами и шапками из радужных перьев гаг. И даже деньги бедного Тэгрына ему понадобились… Потому-то, когда пришло известие о том, что этого самого царя не стало — прогнали его куда-то, — никто из улакцев особенно не жалел: все помнили, как забирал он у них пушнину да вымогал деньги у Тэгрына.
И все же Тэгрыну пришлось отсидеть в сумеречном доме. Там он и научился говорить по-русски. Но главное — вернулся он в Улак с такими новостями, которые были куда интереснее сказок. Тэгрын рассказывал о новой породе русских людей — большевиках, которые установили власть бедных, рассказывал о равноправии и многих других чудных вещах. Все это жители Улака выслушивали внимательно, но почитали достойным лишь любопытства. Тэгрын намекал и на то, чтобы отобрать у Омрылькота и Вамче вельботы. Люди не поняли его. И понемногу рассказы Тэгрына о Петропавловске потеряли новизну. Своим двум детям Тэгрын, однако, дал русские имена.
Пэнкок взглянул в сторону ручья — там, на лугу женщины рвали траву для зимних матов. Этими матами, чтобы сохранить тепло, потом будут обкладывать пологи. Тут же, на лугу, вешали длинные гирлянды хорошо очищенных и надутых моржовых и лахтачьих кишок — из них зимой сошьют непромокаемые уккэнчины — плащи.
На пустыре, в последней яранге, похожей на звериное логово, жил самый ленивый человек села — Лонлы. У берега несколько человек натягивали на новый остов моржовую кожу: рождалась еще одна байдара. Вечером, когда стемнеет, Млеткын при свете костра освятит судно, окропит его чуть протухшей кровью лахтака. И эта байдара принадлежала Омрылькоту.
Пэнкок совсем забыл, зачем его послали на мыс. Он переводил бинокль с яранги на ярангу и жалел о том, что не может заглянуть внутрь жилища, войти глазом в чоттагин[3], приподнять полог и, оставив тяжесть оленьих шкур на плечах, вдохнуть хорошо знакомый запах теплого жилья, острый, замешанный на крепких ароматах немытого тела.
Он осматривал ярангу Каляча и мысленно видел Йоо. Она сидела на оленьей шкуре и пятками мяла ее. Мездра скрипела, вытягивалась, смягчалась и, наконец, становилась шелковистой, ласкающей кожу. Тело Йоо лоснилось и блестело при свете желтого пламени жирника. Когда девушка наклонялась, ее упругие груди темными кончиками касались колен, а когда резко выпрямлялась, устремлялись вверх, словно вспугнутые тундровые куропатки. Коса расплелась и, то и дело спадая вперед, мешала ей. Йоо частенько приходилось прерывать работу, чтобы поправить волосы.
Быть может, она теперь занималась другим делом. Но… однажды Пэнкок увидел, как Йоо мяла шкуру, и теперь каждый раз представлял ее именно такой.
А вот маленький деревянный домик, сколоченный в прошлом году из плавникового леса и до самой крыши обложенный дерном. Одно окошко смотрит на море, другое — на лагуну. На крыше, на короткой палке, развевается кусок красной ткани. Весь этот домик, вместе с его жителем, называется ревком. Ревком — это новая власть, о которой в Улаке никто ничего толком не знает. Нельзя же всерьез верить тому, что говорит Тэгрын!
А Хазин… Хазина привезли сюда прошлой зимой на нарте. Сначала он жил в яранге у Тэгрына, а летом ему поставили вот этот домик. Он хотел учредить Совет, собрал жителей Улака в яранге Омрылькота и стал рассказывать о новой власти. Тэгрын переводил. Люди слушали, улыбались, согласно кивали головами, но когда дело дошло до выборов, единодушно высказались против Совета: мол, не было у них никакой власти, не нужна она им, они — свободные люди. Однако пусть Хазин живет сколько хочет в Улаке, ему по-прежнему будут приносить моржовую печенку и оленье мясо. А чтоб он сильно не тосковал, ему подыщут постоянную женщину.
От женщины Хазин отказался, но все вокруг знали, что Наргинау, вдова погибшего во льдах охотника Гырголя, ходила в деревянный домик не только стирать белье и мыть пол. Но об этом в Улаке не принято было говорить вслух, это никого не касалось.
…Солнце вынырнуло из-за облаков, и теплый луч ласково коснулся лица Пэнкока. Наконец-то Пэнкок вспомнил, зачем люди послали его сюда.
В эти осенние дни каждое утро на Сторожевую сопку поднимался снаряженный человек, чтобы наблюдать за морским горизонтом. У Инчоунского мыса, выдающегося голубой плитой далеко в море, собиралось лежбище. В кипящем прибое купались огромные моржи с грозными желтоватыми клыками, тут же резвились и молодые моржата. Насладившись купанием, моржи выбирались на галечный пляж и укладывались в тени нависающей скалы, постепенно заполняя все пространство от мыса до мыса, от воды до отвесной каменной стены. Моржей было еще немного. И главная забота людей состояла сейчас в том, чтобы не спугнуть их, дать им возможность занять галечный пляж, прибойную черту. А потом, когда уже нельзя будет разглядеть ни камешка под серыми бугристыми телами, с вершины мыса бесшумно спустятся охотники, вооруженные остро отточенными копьями, и будут бить моржей. В этом деле нужна твердая рука — ни один раненый зверь не должен уйти в море — иначе, как говорят поверья, моржи больше не вернутся на это лежбище и вместе с зимней стужей в Улак и в окрестные селения придет голод. А Пэнкок хорошо знает, что это такое. Голод… это когда тело слабеет с каждым днем, словно его оставляет та неуловимая жизненная сила, которая вливается в человека с горячим жирным бульоном, с кровоточащим теплым мясом тюленя, с ароматным копальхеном[4]. В голодные зимы Пэнкок ел вареные лахтачьи ремни: их резали на маленькие кусочки и долго варили в кипящей воде; пробовал налипшую на земляные стены мясных ям зеленую жижу, жевал подошвы, мездру оленьих шкур, брал в рот заячий помет, сухую подснежную траву — словом, то, что обычно, когда было мясо, съедобным не считалось. Но самое страшное, что от голода умирали дети и старики. И тогда на нетронутом белом снегу появлялась печальная тропа на холм Потерянных сердец.