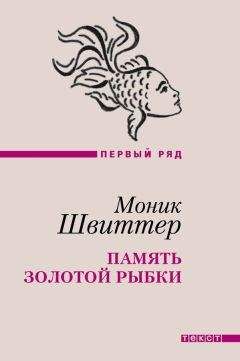Владимир Якименко - Сочинение
Собравшись с силами, Серёжа шагнул вниз на следующую ступеньку. Тело было тяжёлым, непривычным — не его, чужим. Он тащил непослушное тело, как ношу, упрямо цепляясь за перила. Ступеньки горбились, вздрагивали, уходили из-под ног.
— Как вы можете? Ведь надо разобраться… — неслись вслед ему Кларины отрывистые вскрики.
Первое время Серёжа шёл на ощупь, точно слепец, вытянув перед собой руку с растопыренными пальцами. Спускался, плечом прижимаясь к стене. Четвёртый этаж… Третий… Тело слушалось лучше. Идти стало легче. Уже не дрожали, как у новорождённого телка, не разъезжались, подгибаясь в коленках, ноги, а ступали увереннее.
— О, вот и наш Горел. Что за поступь, что за стать! Рекомендую, девочки. Между прочим, такой… — услышал Серёжа снизу голос Макса и девичье угодливое хихиканье.
Макс не договорил. Приглядевшись внимательнее, он, видимо, понял всё. И осёкся. Он не хотел неприятностей. Не успел Серёжа раскрыть рот, чтобы окликнуть его, как Макс, подхватив под локотки своих новых приятельниц, исчез, растворился в полутьме второго этажа. Словно и не было его.
Поражённый, Серёжа решил, что ему померещилось.
«Да когда же кончится эта лестница?.. — устало думал он, стараясь ступать как можно мягче, не торопиться. Голова раскалывалась от боли. И каждый шаг тупым ударом отзывался в висках. — И кончится ли вообще? А если кончится, то что я потом? Куда я? В школе оставаться нельзя. Домой… — При мысли о доме, всегда такой успокаивающей, Серёжа вздрогнул и остановился. — Нет, домой ещё хуже».
Только бы не встречаться больше ни с кем, только бы никого не видеть.
Но ему положительно не везло в этот вечер. Он спустился в пустой и гулкий вестибюль и мимо двери буфета, откуда привычно тянулся отвратительный запах тушёной капусты, прошёл к раздевалке и увидел, что раздевалка закрыта. На блестящей решётчатой дверце висел замок.
Серёжа намерился было перелезть через невысокую оградку — ряд никелированных с шишечками на концах толстых прутьев, возвышающихся над широким деревянным барьером, — и уже ухватился за холодные скользкие прутья, но вспомнил, что и входная дверь заперта, и для того, чтобы уйти, надо разыскать нянечку, живущую при школе. Обычно на время вечера нянечка уходила к себе, предоставив учителям следить за порядком. В лучшем случае она появлялась перед самым окончанием танцев, то есть около десяти.
Серёжа посмотрел на часы, висящие в центре вестибюля против входной двери. Часы показывали двадцать пять минут девятого.
Серёжа представил себе, как он спустится в полуподвал и постучит в дверь с зелёным почтовым ящиком посередине. И будет ждать, пока на стук не выйдет нянечка — скуластая татарка в мятом фланелевом халате, — которую он, конечно же, своим приходом оторвал от неотложных домашних дел. Низкорослая, нервно-вертлявая, она, подбоченившись, в упор будет разглядывать его недобрыми чёрными глазами и в ответ на униженные просьбы — ругаться визгливо и кричать.
Подумав, Серёжа тихо отошёл от раздевалки, присел на низенький кожаный диванчик без спинки, стоящий у противоположной стены. Часы пробили половину девятого.
Зазвенел особенно пронзительный, резкий в пустом вестибюле звонок.
Рядом с диванчиком на стене висело зеркало. Серёжа увидел своё лицо и глупо ухмыльнулся. Показалось, из зеркальной глубины смотрел на него совсем незнакомый, чужой человек. Вид его вызывал у Серёжи презрительное, гадливое чувство. И как будто уже не себя, а того, чужого трогал Серёжа с глухой неприязнью за нижнюю выпятившуюся сильно вперёд губу, за фиолетовый нос, за подбородок. И морщился от боли.
А в голове — гудящая пустота, и в душе — пустота и полная безысходность. Самое страшное, то, чего всеми силами пытался избежать, случилось. Хуже быть просто не могло. Особенно мучила беспомощная его покорность чужой жестокой силе. Как он покажется послезавтра в классе? Униженный, сломленный, жалкий… Новый холуй всесильного Демьяна.
От мыслей таких не хотелось двигаться, дышать — жить не хотелось. Но он почему-то жил, хотя справедливее было бы умереть на месте. Он чувствовал всё яснее проступающую боль и то, как затекла от неудобной позы спина (ему приходилось изворачиваться, чтобы, не вставая, глядеть на себя в зеркало), он ощущал жажду и внезапный, неуместный вовсе в таком состоянии голод.
Невольно Серёжа подумал о том, что рано или поздно придётся идти домой и, опережая расспросы, говорить, что горло болит и губы подпухли, наверное, опять аллергия. И мама поверит и будет, несмотря на поздний час, звонить знакомому врачу и просить приехать.
Серёжа застонал и закрыл лицо руками. Только сейчас он понял Лёку Голубчикова, через себя почувствовал, каково, было ему жить все эти долгие месяцы. Только сейчас ощутил он со всей остротой свою вину перед Лёкой, гадость и подлость своего поступка там, в тихом скверике у скамейки, не видной совсем за разросшимися кустами душно пахнущей сирени. Впервые он не гнал от себя мыслей о Лёке. Лёка стал близким, почти родным за эти несколько минут.
— Горелов! Серёжа!
Серёжа поднял голову и справа в застеклённых белых дверях, ведущих из вестибюля на этажи, увидел Клару Викторовну.
«Этого только не хватало», — подумал устало и безразлично. И стал смотреть себе под ноги на пол, выложенный чёрными и белыми плитками, как шахматная доска. Он ожидал покорно бесконечной вереницы вопросов, изумлённых возгласов, крика, угроз, нудных нотаций, увещеваний, вспомнившихся к случаю поучительных «примеров из жизни», — словом, полнейшего набора воспитательных средств, которым сейчас (он был уверен) воспользуется Клара Викторовна.
Мелкими, частыми шажками Клара Викторовна приблизилась, присела рядом на диванчик. Серёжа услышал её трудное дыхание.
— Только не говори, пожалуйста, ничего. Я сама… — запинаясь, начала Клара Викторовна.
Голос её прерывался, как будто спазмами сжимало горло. Серёжа повернул голову. Прямо перед ним было покрасневшее Кларино лицо: всегда от сильного волнения на щеках её, на лбу и подбородке проступали нездоровые какие-то, чахоточные пятка.
Вновь в привычном облике неутомимой математички проглянули черты обыкновенной женщины — усталой, издёрганной донельзя женщины, с материнским участием глядящей сейчас на него.
«Кажется иногда, споткнёшься, упадёшь и… конец», — вспомнил Серёжа и, повинуясь внезапному порыву, пожал влажноватую Кларину руку. Такое чистое, тимуровское пожатие — благодарность и наивное обещание ответной помощи и поддержки в тяжёлый час.
Клара Викторовна поняла. Припухшие веки её дрогнули, глаза заблестели, наполняясь прозрачной влагой.
— Давай-ка лучше походим, — торопливо произнесла она глуховатым голосом. И поднялась.
Стали ходить по коридору монотонно, из конца в конец. Клара Викторовна крепко держала Серёжу под руку.
А наверху в зале опять гремела музыка, ритмично грохотал ударник, нарушая покойную сонную тишину.
— Я сегодня только почувствовала… — сказала Клара Викторовна, бессознательно ускоряя шаг. — И думаю, может быть, и моя вина здесь есть. Даже наверняка есть. Но я не об этом хотела… Можно с тобой, как со взрослым?.. Знаешь, класс ваш — это огромная сила. Без вашей поддержки мы, учителя, беспомощны. Конечно, мы можем наказать… старыми-престарыми дедовскими способами; поставить двойку, вызвать родителей, пригрозить плохим аттестатом и плохой характеристикой, подключить милицию, наконец… Но спасти, помочь… Здесь нужны усилия всех, понимаешь — всех! А вы?! Что делаете вы?! На собраниях отмалчиваетесь, никто не встанет, не скажет прямо Демьянову в лицо… Духу не хватает. Ухмылочки, смешки, шуточки глупые — это не разговор.
Серёжа, споткнувшись, в недоумении посмотрел на Клару Викторовну и мгновенно понял всё. С силой выдернул локоть из Клариных цепких рук. «Так вот почему она такая добрая… Опять хочет выгородить любимчика. Защищает этого… Спасать его, видите ли, надо, помогать ему…»
— Что с тобой, Серёжа?
Клара Викторовна пыталась удержать Серёжу, хватая сзади за плечи. Но он уворачивался с гневным сопением, всем видом своим, каждым движением давая понять, насколько присутствие её ему неприятно. Клара Викторовна, однако, была настойчива. Она семенила рядом, с трудом поспевая за его размашистыми шагами. Снова непостижимым образом она завладела его рукой и теперь почти висела на остро выставленном локте, тяжестью своего тела погашая движение.
— Ты не обижайся только… Пожалуйста, не обижайся. Вы должны наконец показать Демьянову, что не боитесь его. И даже — презираете. Да, да, презираете со всеми его братьями, дружками вместе. Напиться до скотского состояния, впятером наброситься на одного — совсем не геройство. Это скорее знак слабости, трусости. Так поступают только шакалы. Демьянов должен понять это. А вы своим поведением только потакаете ему, подбадриваете даже. Мол, давай, не стесняйся, Витёк! Вот ты говорил вчера — у меня глаза открылись. Ни времени, ни сил не жалела: походы, поездки, вечера… А вернётесь — и снова каждый в свою норку. В конце концов у вас пятнадцать мальчишек в классе… Вам никакой Демьянов не страшен. Но нет, вы не думаете друг о друге. Сегодня тебя… А все — я уверена — стояли рядом равнодушно. Возможно, даже с любопытством тайным глядели. Но ведь завтра Демьянов может каждого из них — Фонарёва, Зубика, Голубчикова… Неужели не чувствуете — жить так дальше нельзя! Невозможно, немыслимо! — Клара Викторовна выпустила Серёжину руку. Она стояла, подавшись вперёд, в сторону входной двери, вытянувшись напряжённым телом, словно говорила не ему только, Серёже, а всему классу, всей школе — всем, всем. Высокий голос её дрожал на пределе, готовый привычно сорваться, перейти в крик или угаснуть, сменяясь беззвучными слезами. — Неужели выросли сытые, благополучные, безразличные к бедам других? Всю жизнь в узкой норке — я, мой, моё, мне… Всё — под себя, всё — для себя! И лишь изредка выглядывать с опасливым любопытством, вынюхивать: какой нынче в воздухе направляющий запах? К чему готовиться, чего ожидать?