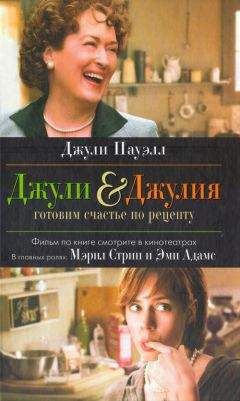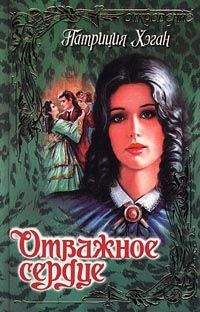Николай Веревочкин - Белая дыра
Огляделся Кумбалов, сориентировался в пространстве и времени. И вправду сбился с курса. Раньше-то на рыбалку он все больше на велосипеде ездил. Но опасное это дело для думающего человека. Несколько раз так глубоко задумывался, что с велосипеда падал. Случалось, что и с плотины. А однажды под Злокиряйск укатил. То ли мысль кончилась, то ли дорога в тупик уперлась, смотрит — мать моя женщина! — где это я? Без малого сто верст до Новостаровки. С тех пор на велосипед не садился.
— А ты куда собрался? — перевел разговор на Охломоныча Кумбалов.
— В Бабаев бор.
— Чего там потерял? Вроде ягода еще зеленая.
Посмотрел Охломоныч, зажмурившись, на жаворонка — как поет слышно, а самого не видно, растворился в пятне солнца — и сказал задушевно:
— Вешаться иду.
— Что — устал кислую морду на тонких ножках носить? Зачем вешаться-то? — с сердитым презрением спросил Кумбалов. — Гадость какая — вешаться! Не хочешь жить — жрать перестань. От голода сдохнуть куда как благороднее. Худеешь себе, слабеешь, а сам все чище делаешься, спокойнее. А когда уж совсем прозрачным станешь, так что через тебя солнце просвечивает, и все на свете тебе ясно и понятно, тихо так, как младенец в люльке, засыпаешь. Святое дело! А то придумал — вешаться.
Он рассказывал о прелестях голодной смерти с такой теплотой и ностальгической грустью, словно не однажды умирал, отказавшись от еды, и это составляло самые светлые его воспоминания.
— Дней сто поголодаешь, — мечтательно посмотрел он на небо в поисках невидимого жаворонка, — а потом копыта в разные стороны отбросишь. Закопают тебя в сухом месте за третьей сопкой — и лежать твоим мощам, пока солнце не погаснет. Не разлагаясь. Гнить не будешь, как фараон. Чему гнить-то? Что ты, святое дело!
— Сто дней? Больно долго ждать, — засомневался Охломоныч.
Хотя, сказать по совести, такой способ самоубийства ему понравился больше. А то действительно, чего хорошего — болтаться с синей мордой на суку.
Природу портить.
— А может быть, поживешь еще? — спросил Кумбалов без особой надежды в голосе. — Тем более — карась пошел.
— Смысла не вижу.
— Ну да, конечно, — быстро согласился Кумбалов, — раз смысла жить нет, надо со смыслом умереть. В знак протеста против антинародной, людоедской политики правительства.
— Да им там по балалайке, как я голодаю — в знак протеста или просто от жрать нечего.
Кумбалов задумался, как бы представляя реакцию каннибалов из правительства на голодную смерть Охломоныча.
— Не скажи, — возразил он, — один заголодает, второй, сотый, тысячный — обратят.
Тритон Охломоныч угрюмо хрюкнул.
— Чего смешного? — не понял Кумбалов.
— Да я подумал: проснется однажды твое правительство, а вся страна в знак протеста перемерла. Чем оно править-то будет?
— Юмор у тебя какой-то черный, — укорил земляка философ, — чего это ты за задницу держишься, кум?
— Да вот родной пес укусил, — пожаловался Охломоныч.
— Иди ты! — не поверил Кумбалов. — Полуунтя? Да он же и на чужих не лаял. Ты скажи — даже собаки с такой жизнью озверели. Не взбесился ли?
Услышав подробный рассказ о бунте пса, Кумбалов задумался.
Густые брови шевелились с шуршанием.
Думал долго, что-то бормоча себе под нос, а надумавшись, неожиданно заявил:
— Нет, если бы Бог был, он бы обязательно в компартию вступил.
— Вряд ли, — печально возразил Охломоныч, слегка озадаченный таким поворотом мысли, — все ж таки, скажи, сильно его обидели после революции. Сколько одних церквей в клубы переделали.
— Он поймет: не со зла, для народа. Да и когда это было. Мы-то с Богом мирно сосуществовали. Скажи?
— Эх, кум! Все наши партайгеносцы буржуями заделались, а ты Бога в партию собрался принимать.
— А я в партию не за зарплату, а за идею вступал. А эта сволочь, — кивнул Кумбалов неопределенно — то ли в сторону райцентра, то ли в самый центр, — им не идея, им власть нужна. Любая власть. Придут фашисты — и фашистами в 24 часа заделаются, лишь бы власть не потерять. Эта сволочь Бога и гнобила на заре советской власти. А лично я к Богу всегда нейтрально относился. У нас и икона в углу всегда висела, я хоть слово бабке сказал? Кстати, Он тоже было 40 дней в пустыне голодал. Ему эта власть по барабану была, все о народе думал… Хочешь, Охломоныч, на пару голодать будем?
Каскад искусственных озер у восьмой бригады как раз по пути к Бабаеву бору. Пошли вместе. Кумбалов, чтобы показаться невежливым попутчику, стал думать вслух. Мыслил он масштабно.
— Ты посмотри, Охломоныч, какой жуткий отсос населения получается, — говорил он крайне озабочено. — Возьмем отделения. Белоглинке, считай, полный конец. От Неждановки одно название осталось. В Кривощекове старик Петров помрет — хоронить некому. Куда народ делся? Ну, частью Новостаровка отсосала. Теперь, прикинь, сколько пустых домов в самой Новостаровке стоит. Куда новостаровцы подевались? Скажешь, в райцентр уехали? Был я прошлый месяц в Злокиряйске. Чистый Сталинград. Ни одного многоэтажного дома целого не осталось. Все разбомблено. Ни тебе крыш, ни тебе дверей, ни тебе окон. Стоят одни коробки, дождями размываются. Где злокиряйцы? В Тещинске. А тещинцы? В столице. А оттуда кто куда — кто в Германию, кто в Канаду, кто в Израиль. Вылетают земляки, как в трубу. Жуткий, жуткий отсос идет. Лучшие мозги по свету разлетаются. Скоро у нас одни кривые да косые останутся. Ты на Новостаровку посмотри — Шнурский первым человеком стал. Тьфу!
— Правильно делают, что уезжают, — мрачно вклинился в печальный монолог Охломоныч. — Мы здесь как от страны оторванные. О нас там давно забыли. Ни тебе электричества, ни тебе газет, ни тебе автобуса, ни тебе смысла жизни. Живем как суслики. Телевизор как включать забыл.
— Хрен с ним, с телевизором.
— Я поначалу тоже так думал. Беда большая — бензина нет. Меньше леса топтать будут. До чего доходило — тещинцы вишарник вырубают и на ветерке, чтобы комары не кусали, ощипывают по ягодке. Поначалу я даже обрадовался, что городских в Бабаевом бору нет. А потом гляжу — ема-е! — что же это получается — вымираем, как мамонты…
За разговором поднялись они по косогору на вершину первой сопки, откуда открылся просторный вид на каскад из трех озер, отделенных друг от друга земляными плотинами-дорогами. Три озера, как три зеркала в камышовых в тальниковых рамах. Самым большим и красивым было первое, на берегу которого туманились развалины бригады, поросшие молодым осинником.
Спустились к прогалине в густом краснотале. Запахло озером. Мир у воды был просторнее, прозрачнее, яснее и звонче, наполнен смыслом и волнующими звуками — шелестом камыша и крыльев, всплесками и утиными разговорами. В метре от них по кромке воды прошел на тонких ножках кулик, поглощенный поисками жучков. На пришельцев он не обратил внимания, поскольку не видел в этих больших существах ни пользы, ни опасности.
Кумбалов насадил жирных червей сразу на три крючка. Проверил — на одной ли линии кольца. Снял инерционную катушку с тормоза и, широко размахнувшись, забросил снасть. Большое свинцовое грузило, отлитое в столовой ложке, стремительно, словно снаряд ПТУРСа, полетело на середину озера, вытягивая леску. Забросил донку Кумбалов, как всегда, на всю катушку, метров на сто, в одну ему известную яму, где, по его мнению, обитали самые большие караси и карпы, а также нечто среднее — то ли карпокараси, то ли карасекарпы. Вырезав зеленую упругую камышинку, Кумбалов воткнул ее в землю и, аккуратно расщепив кончик складным ножом, натянул леску, а на нее налепил ком глины.
— А что же колокольчик? — удивился Охломоныч.
— Шуму много. На ветру обманывается. Думать мешает. Мороки много. Леску руками выбирать приходится. А с глиной — милое дело! — подсек, она и отлетела. Крути себе на здоровье. Если крупная рыба, вообще и без глины можно. Поставил катушку на тормоз и жди, пока затрещит. А колокольчик — он для ночной рыбалки.
Место было обжитое. В глинистом берегу вырезана скамья, широкая, как двуспальная кровать. Она была застлана камышом. Кумбалов, зашуршав подстилкой, сел и похлопал рукой рядом, приглашая Охломоныча присесть. Тот решил было отказаться, сославшись на неотложное дело, но, увидев, как земляк извлек из рюкзака бутылку с мутностью, подумал, что отказываться вроде бы как и невежливо.
Сервируя стол, Кумбалов продолжал прерванные рассуждения:
— Будь я президентом, запретил бы рост городов свыше десяти тысяч населения. Критическая масса! Как только перевалит за десять тысяч, так и начинаются процессы гниения и разложения. Новая язва на теле земли. Ну, давай, чтоб черти не мерещились.
Пили по очереди из пластмассовой воронки. Удобная, небьющаяся, а главное, гигиеническая вещь. Что важно — деления нанесены, никого не обидишь. Губами не надо касаться. Носик пальцем прикрыл, ко рту поднес и отпустил. Как дождь по желобу с крыши.