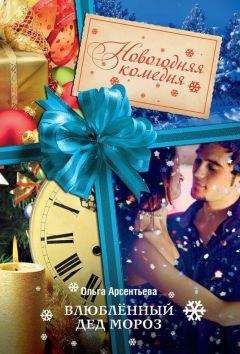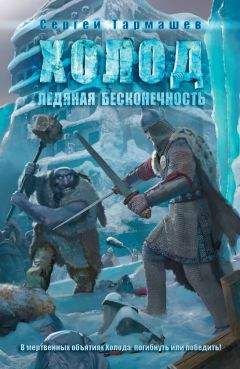Курилов Семен - Ханидо и Халерха
— Ты что это, мэй? — зашевелился Сайрэ.
— Поеду я. Мне надо ехать.
— Пурга бьет. Куда ж ты в такую погоду? Ложись, отдохни. Не спавши, не евши — как можно трогаться в путь?
— Нет, я поеду. У меня теперь все пути трудные… Сайрэ, если я стану шаманом, всю жизнь буду делать тебе добро. А когда захочу уехать в тот мир, когда надену на шею петлю, то прикажу людям не забывать твое имя, прославлять тебя — доброго шамана и мудрого человека. Проводи меня, добрый старик.
Ничего больше не возразил, не сказал Сайрэ. Он встал, обулся, выбрался из-под полога. Мельгайвач немного замешкался. Раскаяния размягчили его, и он потянулся рукой к голове Пайпэткэ, чтобы погладить ее. Но нет, не погладил, отдернул руку. И пополз вслед за хозяином.
— Апай, — Сказал он тихо, возле сэспэ, — уезжаю и хочу открыть грешную тайну. Присоедини, могучий старый шаман, этот мой совсем непростительный грех к тем грехам, которые ты теперь знаешь. Не воровал я и, кроме этой тайны, не скрыл ничего. Может, мелкое что-то забыл.
— Говори.
— Пусть, апай, об этом тебе расскажет твоя жена Пайпэткэ. А я кровью смою и этот грех.
— Хорошо, поезжай.
Мельгайвач еще путался в полах ровдуги, отрывая прижатую ветром сэпсэ, а шаман Сайрэ уже потихоньку крестился.
Пайпэткэ спала долго. Но открыла она глаза не потому, что выспалась — ее разбудили холод и храпенье Сайрэ. Она выскользнула из-под одеяла, села на свернутую доху, лежавшую под головой, и замерла.
Мельгайвача на постели не было. В одно мгновение Пайпэткэ поняла, что его нет и за пологом, нет и на улице за тордохом. Однако, не веря самой себе, она сейчас же с великой осторожностью перескочила через спящего старика, оттянула полог, глянула в щель, прислушалась. Очаг не горел, нигде не было видно огонька трубки; в незаткнутом онидигиле шумела пурга, осыпая снегом очаг и треногу; по тордоху гулял лютый мороз. Сильно храпел старик.
Босая, неодетая, Пайпэткэ выбралась из-за полога — и кинулась к выходу.
На воле гудела пурга. Небо чуть посерело, была середина дня, но что-либо разглядеть не могли даже молодые, жадно ищущие примет глаза: так и сяк проносились потоки снега, вздымая возле тордоха густые тучи. И все-таки Пайпэткэ зашла в неглубокий сугроб, наклонилась и стала искать следы… Но следов не было никаких — ни новых, ни старых: все давно зализала пурга. А Пайпэткэ не сдавалась: она нагнулась сильней и разглядывала, разглядывала сугроб. Наконец она увидела свои голые ноги, вокруг которых извивались бурунчики снега, — и бросилась обратно в дверь.
В тордохе Пайпэткэ остановилась возле стола-доски и треноги. Очаг выглядел жалким, покинутым — над останками костра, притрушенными снегом, одиноко висел пустой крюк-сускарал [46], чай в неубранных кружках замерз. Эта заброшенность, и противное храпение старика, за пологом заставили Пайпэткэ вздрогнуть. Но, вздрогнув сердцем, она задрожала и всем телом, да так, что руки тотчас вскинулись к груди и начали трястись, хватая воздух. Дробный стук зубов рассыпался по тордоху. И был страшным дикий, прерывистый смех, вдруг перекрывший и нудный гул непогоды, и тягучее храпение старика. Пайпэткэ хохотала все сильней и сильней и зубами стучала все громче и громче — и это бы кончилось чем-то еще более страшным, если бы не Сайрэ, выскочивший из-за полога.
Кривоногий Сайра засуетился, забегал вокруг жены, боясь сказать или сделать что-то неверное. Но он нашелся и оборвал этот смех:
— Ке, слушай, ке; а где ж Мельгайвач? Разве он но вернулся? Как же он не вернулся? Он ведь за подарком поехал — оленей пригонит сюда… Наверно, пурга его задержала…
Сайрэ спасал жену от беды, обманом возвращал ей рассудок и не знал, что Мельгайвач в это время действительно и всерьез размышлял о подарке.
Ничего не случилось в пути с богатым, но обреченным на тяжкие испытания чукчей. В мешке на нарте у него была водка, и он, хорошенько выпив, не щадил оленей, пробиваясь сквозь полосу непогоды.
В теплой яранге, где все говорило об огромном достатке, к нему пришли свои, трезвые, но слишком нетерпеливые мысли. Он рассудил так. Да, кровь и боль сводят с ума — даже животных, и человек, глядя на кровь, расширяет глаза, становится не таким, каким бывает всегда. Поэтому главное — кровь, а не всякие там проталины по весне и пустой навар вместо жирной еды; Сайрэ, как и все шаманы, конечно, немного жулик… И Мельгайвач, завалившись спать с младшей женой, начал гадать, сколько оленей нужно отдать Сайрэ — сто или двести и когда лучше пригнать их в Улуро — весной или сейчас.
За этими размышлениями Мельгайвач совсем забыл о том, что Кака, вроде птицы, клюющей падаль, в последнее время все снижался и снижался над ним.
Если бы он подумал об этом, то, наверное, остерегся спешить и уж непременно бы все сделал иначе. Но ему слишком надоело видеть себя попавшим в беду, и слишком близкой была возможность опять улыбаться.
Уже на второй день Мельгайвач отправил всех жен к родственникам и остался один: ему надо было бы выгнать еще и собаку, но ведь собака не человек, что она понимает…
В опустевшей яранге было тепло и светло — под треногой горели поленья, горел, как всегда, и большой жирник. Мельгайвач ходил туда и сюда, разглядывая свои богатые пологи, каждый из которых был подобран из шкур одинаковой масти. И вдруг он подошел к очагу, спустил на бедра штаны, задрал рубаху и ударил себя не успевшим блеснуть ножом. Ощутив вполне терпимую боль, Мельгайвач удивился, как все это просто. Он не взглянул на живот; он наугад придавил ладонью рану, а когда ладонь стала мокрой и теплой, отнял ее, поднял голову кверху, чтоб ничего не видеть, потер руку о руку, умыл сразу обе щеки — но неожиданно зашатался, зашатался, как одинокое дерево, попавшее в круговорот горячего ветра. Дымовое отверстие метнулось в сторону, а подсвеченный снизу кособокий шатер [47] расправился во все небо и закрутился, как колесо на русской телеге. Чтоб не упасть, Мельгайвач схватился свободной рукой за жердь треноги и опустил голову. То, что увидел он, было ужасно. Ладонь опять зажимала рану, но из щелей между пальцами упругими струйками вырывалась в разные стороны кровь.
Вот тут-то Мельгайвач и оторопел. Он скорее закрыл правой ладонью левую, однако кровь моментально нашла новые щели. К тому же все туловище охватила жгучая боль. Он согнулся до самой земли, чуть не достав головой пола, — но большие ладони отстали от живота, и кровь потекла сильней. Тогда Мельгайвач упал на бок, упал и придавил локоть — и рана вовсе открылась.
Растерявшись, не зная, что делать, он стал кататься по полу.
Он купался в крови и не мог закричать — боль со страшной силой стискивала ему зубы. И когда от этой боли и от отчаяния глаза совсем полезли на лоб, вдруг наступило какое-то успокоение. В муках всегда бывает миг отупения, передышки — его дарит сила жизни затем, чтоб у человека мелькнула трезвая мысль, может, последняя, а может, спасительная. Но Мельгайвач этот миг понял по-своему, так как приготовил себя к нему. И только успел подумать о вдохновении, как закричал что было сил. Он заметил у очага собаку, лизавшую красную лужу…