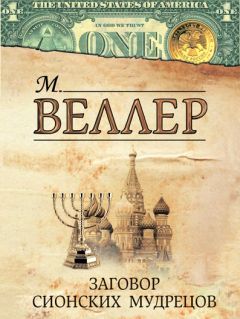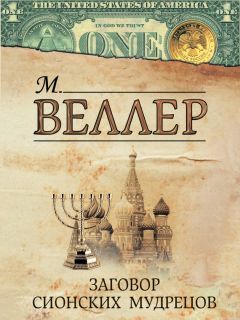Зельда Фицджеральд - Спаси меня, вальс
— Глупо, что приходится терпеть неудобства в такой прекрасной стране, — поддержала ее Алабама. — Когда мы только приехали, все было так хорошо.
— Все со временем становится хуже и дороже. Ты когда-нибудь думала о том, что такое килограмм?
— Полагаю, два фунта.
— Мы не в состоянии, — взорвался Дэвид, — съесть четырнадцать килограммов масла в неделю.
— Может быть, полфунта, — виновато произнесла Алабама. — Надеюсь, ты не собираешься все испортить из-за килограмма…
— Мадам, надо быть очень осторожной, когда имеешь дело с французами.
— Не понимаю, — заметил Дэвид, — ты все жалуешься, что тебе нечего делать, почему же ты не занимаешься как следует домом?
— Чего ты от меня хочешь? Каждый раз, когда я пытаюсь поговорить с кухаркой, она скрывается в подвале и прибавляет сто франков к счету.
— Ладно… если завтра опять будут голуби, я не приду к ланчу, — пригрозил Дэвид. — Что-то надо делать.
— Мадам, — спросила няня, — вы уже видели новые велосипеды, которые купили работники после нашего приезда?
— Мисс Медоу, — неожиданно перебил ее Дэвид, — не будете ли вы так любезны помочь миссис Найт со счетами?
Алабаме было совсем ни к чему, чтобы Дэвид втягивал в разговор няню. Она хотела поразмышлять о том, какими загорелыми вскоре станут ее ноги и какой вкус был бы у вина, если бы его охладили.
— Всё социалисты, мистер Найт. Они губят эту страну. У нас будет еще одна война, если они не поостерегутся. Мистер Хортерер-Коллинз говорил…
Звонкий голос няни не замолкал и не замолкал, и пропустить мимо ушей хотя бы одно ее слово было невозможно.
— Сентиментальная чушь, — раздраженно фыркнул Дэвид. — У социалистов сила, потому что в стране уже все вверх дном. Это следствие, а не причина.
— Прошу прощения, сэр, но это социалисты начали войну, и теперь…
Решительные высказывания няни говорили о ее твердых политических убеждениях.
В прохладной спальне, предназначенной для отдыха, Алабама дала волю чувствам.
— Нет, это невозможно, — сказала она. — Как ты думаешь, она собирается проповедовать за каждой едой?
— Пусть вечером она и Бонни едят наверху. Наверно, у нее никого нет. Все утра она просиживала в одиночестве на берегу.
— Но, Дэвид, это ужасно!
— Конечно, но не стоит так огорчаться. Представь, что ты читаешь роман. Она наверняка найдет кого-нибудь, чтобы облегчить душу. И ей станет лучше. Нельзя позволять чужим людям портить нам лето.
Алабама лениво бродила из комнаты в комнату; в ее одиночество обычно врывался лишь дальний шум, неизбежно сопровождавшие домашние хлопоты. И вдруг она услышала то, что ее испугало. Наверное, вилла распадалась на части.
Она бросилась на балкон. В окне показалась голова Дэвида.
Над домом шумел, вибрируя и словно взбивая небо, аэроплан, который летел так низко, что они видели золотые волосы Жака через коричневую сетку над его головой. Он грозно снижался, напоминая хищную птицу, и снова воспарял ввысь, в голубое небо, делая крутой разворот. Когда он вновь пошел на вираж, сверкая на солнце крыльями, то в головокружительной петле едва не задел крышу. Потом аэроплан опять набрал высоту, и Алабама с Дэвидом увидели, как Жак помахал им рукой и что-то бросил в траву.
— Не хватало еще, чтобы этот дурак разбился! У меня чуть сердце не разорвалось, — пожаловался Дэвид.
— Он, наверное, ужасно храбрый, — мечтательно произнесла Алабама.
— Хочешь сказать, тщеславный, — возразил Дэвид.
— Voila! Мадам, Voila! Voila! Voila!
Взволнованная служанка принесла Алабаме коричневый пакет, похожий на дипломатическую вализу. Ее живой французский ум сразу подсказал ей, что аэроплан не летел бы на столь опасной высоте ради послания для мужчины.
Алабама открыла пакет. На листке, вырванном из блокнота, было написано синим карандашом по диагонали: «Toutes mes amitiés du haut de mon avion. Jackes Chevre-Feuille»[51].
— И что это значит? — спросила Алабама.
— Приветствие, — ответил Дэвид. — Почему бы тебе не заглянуть во французский словарь?
В тот же день Алабама по дороге на пляж остановилась около библиотеки. С полок, уставленных книжками в желтых обложках, она взяла словарь и «Le Bal du Comte d'Orgel»[52], чтобы позаниматься французским языком.
С четырех часов, словно по предварительной договоренности, ветер прокладывал синюю дорожку в пропитанной морем тени во владениях Жана. Трио, работавшее под американский джаз-бэнд, жаловалось на прилив, избывая печаль популярными мелодиями американцев. Великолепное исполнение «Да, у нас нет бананов…»[53] вдохновило несколько пар. Беллендо, нарочито кокетничая, танцевала с мрачным корсиканцем; Полетт и мадам со страстью изображали сложные переходы, уверенные, что именно так надо танцевать настоящий американский фокстрот.
— У них ноги, как у канатоходцев, — заметил Дэвид.
— Забавно. Надо поучиться.
— Тогда придется обойтись без кофе и сигарет.
— Наверно. Месье Жак, вы научите меня?
— Я плохой танцор. К тому же мой опыт ограничивается танцами с мужчинами в Марселе. А настоящие мужчины обычно в танцах не сильны.
Алабама не поняла его французский. Впрочем, это было не важно. Переливчатые золотистые глаза притягивали и отталкивали ее, притягивали и отталкивали под рефрен отсутствия бананов в республике.
— Вам нравится Франция?
— Я люблю Францию.
— Вы не можете любить Францию, — напыщенно заявил он. — Если бы вы любили Францию, то любили бы француза.
О любви Жак говорил на английском языке не в пример лучше, чем о чем-либо еще. Слово «любовь» он произносил как «люб-бовь», особенно выделяя его, словно боялся забыть.
— Я купил словарь, — сказал он. — И собираюсь выучить английский язык.
Алабама засмеялась.
— А я собираюсь выучить французский, чтобы более четко и понятно выражать свою любовь к Франции.
— Вам надо увидеть Арль. Моя мама оттуда, — признался он. — Арлезианки очень красивые.
Печальные романтические нотки в его голосе вернули их в мир, в котором правит своя, не ведомая посторонним логика. Их взгляды устремились поверх голубых волн к голубому горизонту.
— Вы правы… — проговорила Алабама, правда, забыв, к чему это она.
— А ваша мама какая? — спросил он.
— У меня мама старенькая. Она очень мягкая. Никогда ни в чем мне не отказывала, вот и испортила меня. Я и теперь плачу, если мне чего-то не дают.
— Расскажите мне о том времени, когда вы были маленькой, — с нежностью попросил он.
Музыка стихла. Он прижал ее к себе так сильно, что ей показалось, будто под напором его костей гнутся ее кости. Жак сильно загорел, от него пахло песком и солнцем; и Алабама чувствовала под наглаженным льняным костюмом его тело. Она не думала о Дэвиде. Хорошо бы он не видел ее теперь, но в общем-то ей было все равно. Она понимала одно: что ей было бы приятно целоваться с Жаком Шевр-Фейлем на верху Триумфальной арки. Целоваться с незнакомцем в белом льняном костюме все равно что совершать забытый религиозный обряд.
Вечерами, после обеда, Дэвид и Алабама ездили в Сен-Рафаэль. Они купили маленький «рено». Въезд в город был иллюминирован, это напоминало временную декорацию, которой закрывают сцену, когда там меняют реквизит. Лунные лучи, падавшие со стороны моря, пробивали хрупкие светящиеся пещеры в тени массивных платанов. В круглом павильоне на самом берегу деревенский оркестр играл «Фауста» и веселые вальсы. Бродячая уличная ярмарка раскидывала свои шатры, и молодые американцы вместе с молодыми офицерами взмывали в южные небеса на раскачивающихся chevaux de bois[54].
— Мадам, в такой толчее малышку подстерегает коклюш, — наставительно произносила няня.
Чтобы уберечься от микробов, няня и Бонни ждали в автомобиле или медленно прогуливались по выметенной площадке перед стоянкой. Потом Бонни сделалась совершенно несговорчивой и так громко рыдала, вожделея ночной ярмарочной жизни, что в конце концов пришлось по вечерам оставлять их с няней дома.
Каждый вечер Алабама и Дэвид встречались в «Кафе де ла Флотт» с Жаком и его друзьями. Молодые люди шумно вели себя и пили много пива, портвейна и, если платил Дэвид, даже шампанского, дурашливо называя официантов «адмиралами». На своем желтом «ситроене» Рене подкатывал по ступенькам отеля «Континенталь». Летчики все без исключения считали себя роялистами. В свободное от полетов время одни рисовали, другие пытались писать, и все были в восторге от гарнизонной жизни. За ночные полеты они получали дополнительную плату. Красно-зеленые огни самолетов Жака и Полетта довольно часто расцвечивали в праздничные цвета небо над морем. Жак терпеть не мог, когда Дэвид платил за его выпивку, а Полетт был не против: у него и его мадам был ребенок, которого они оставили в Алжире с родителями Полетта.