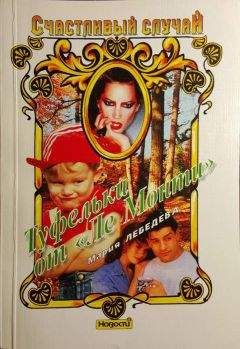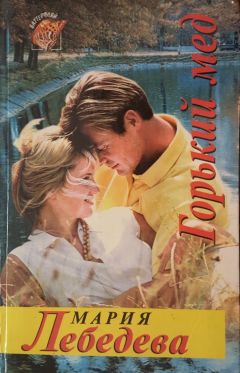Там темно - Лебедева Мария
То, как его отпевали, потом долго звенело в ушах. Мама всегда точно знала, как надо. Ей словно не приходилось искать, тревожиться, мучиться выбором. Родственники сказали маме: какая ты молодец, всё сделала как у людей, он бы гордился тобой. Кире сказали: как хорошо держишься, он бы гордился тобой. Ушедшие только и заняты непрестанной оценкой того, как их с земли проводили, кто хорош, а кто подкачал, и загораются в небе от одной до пяти жёлтых звёзд.
Кира тоже ведь знала, как надо, – и как надо терзало Киру по всем правилам, от и до.
– Ты чего тут с цветами? Могла просто у входа купить, – пожала мама плечами.
У кладбища впрямь торговали. Всем, кто подходил к какому-нибудь прилавку, тут же впаривали новинку: цветочки в горшках укреплены цементом. Глядя на астры в цементе, на ум приходили байки про всяческих мафиози, чьи ноги в залитом бетоном тазу поди так же вот жутко торчали шершавеньким стебельком. Ветру не сдвинуть, птице не унести, а ожившему мертвецу, если вздумает откопаться, – заработать шишку на лбу, ткнувшись черепом о горшок. Продавщица сказала про астры – «смотрите, почти как живые», и Кира кивнула – живые, живые, с двух шагов даже не отличишь, если, конечно, при этом зажмуришь крепко глаза.
За спинами продавцов сразу могилы бандитов – здоровенные памятники, надгробия с автомобилями, площадки с плиткой как будто под танцы.
Мама приволокла на такси венок размером с окно – из мохнатой зелёной проволоки, с лентами, будто на выпускной. Роскошный, богатый венок. Он накрыл почти полностью крест.
– Мам? – Кира кивает на надпись «любимому мужу».
– Какой был, такой и купила, – пожимает плечами мама, на ветру щёлкая зажигалкой. – Ну любимому первому мужу.
А потом вот ещё говорит, как будто ища оправдание:
– Ты так в детстве его ждала. Смотрела в окно, говорила: «Скоро папа придёт?» А он к этой своей ездил, а. Помнишь, ты помнишь?
Кира не помнила. Помнила только, как мама шептала громко и зло: «Променял тебя папа любимый твой, да? Укатил к своей этой?», а Кира никак не могла угадать, какой правильный будет ответ. Хотелось сказать гадость – не для того, чтоб помучить, просто стало так плохо самой, что показалось: если заболит у двоих, это станет их кодовым словом, мама поймёт её через боль. Слова, бьющие наверняка, так и рвались с поводка-языка, когда не оформилось в мысль, но почувствовалось: ранить в ответ несложно, только выйдет умножить, а не уравнять. Это будет другое больно. Слова остались при ней и глодали её саму. Фоном выучилась ненавидеть, неприязнь въелась в подкорку, вынудила перекоситься брезгливо, когда отец как-то спросил – и чего на него нашло? – «показать тебе, что ли, сестрёнку?». Ласковое «сестрёнка» сильно царапнуло ухо. Странно было, что речь об одном существе – оно и сестрёнка, и эта, у папы есть дочка помладше Кирюши, милее прелестной Кирюши, как так?
У этой не может быть имени, тела, она выдумка, призрак, фантом. Ведьмин проклятый ребёнок, гадкий противный подменыш должен вовек оставаться словами, маминым злым шепотком, отцовским отсутствием дома, причиной родительских кухонных ссор. Кира тогда уже чуяла: увидит – рассеются чары, ненависть схлынет водой. Она замерла и не знала, что выбрать: «нет» обидит отца, «да» заставит солгать. Тогда изо всех сил зажмурилась, и под веками замельтешили звёзды, и темнота потянула властно ту, которую только что звали Кирой, туда, где не нужны имена.
То был, наверное, год шестой от сотворения Киры. Да, приблизительно так.
Взрослая Кира-то знает, чем придётся за это платить.
Тему закрыли и наложили печать. Она больше не слышала, чтобы другую папину дочь называли её сестрой. Избегали произносить также имя той младшей. Отец терялся, неопределённо махал рукой и называл только город, чтобы после «поеду» подставлять не «к кому», а «куда» – такая попытка соломки понабросать: мягче, но всё же пожароопасно. Делал вид, будто едет не от дочери к дочери, а из обезличенной точки в другую, как в любой школьной задачке на расстояние, время и скорость.
Иногда добавлял, что в командировку. Возможно, не лгал, заодно и в командировку – чего два раза-то ездить, ещё тратиться на проезд.
И Кире думалось: а для той, другой, Кира такой же город?
Тело разрасталось абстракцией, растягивалось по площадям, вставало рядами невзрачных многоэтажек, с этим кладбищем на окраине, где шеренги надгробий как вечноспальный район.
– Ты и болеть начала, когда она родилась. Понимаешь? Крепенькая малышка была, а потом точно порчу наслали.
Кира чуть прикрывает глаза:
– Мам, я же в сад не ходила. В школу пошла и от детей заражалась. Краснуха, грипп.
Слова мешаются с дымом, да, мама, конечно, мама, поднимаются вверх, растворяются, ок.
Кира, конечно, не говорила, – но выдохнула успокоенно, когда наконец развелись. Считалось, такой вот исход – для ребёнка жуткая травма, и Кира наслушалась монологов от каждого члена семьи, как её все по-прежнему любят. Так было надо, чтобы в дальнейшем у Киры не стало проблем относительно самооценки. Она смутилась этих признаний больше, чем всего до. На её памяти они впервые заладили вдруг о любви. По ощущениям было почти как смотреть с родителями кино и наткнуться на взрослую сцену. Только, пожалуй, стыднее. Да. По правде, так сильно стыднее.
В остальном было норм. Развод прекратил ожидание вечной беды, чего-то нервного, злого, нависающего над тобой. Разошлись по районам: отец, божество их обжитой квартиры, так и остался на месте, а Кира с мамой переселились в другую, светлее и меньше, без тяжёлых книжных шкафов. Мама тоже как будто бы стала светлее, как бы чуточку меньше, и на свет быстренько приманилось всё, чего прежде недоставало. Квартира радостно прирастала всякими ништяками типа полочек в коридор. Все эти нужные ящички, эргономичные антресоли, переклеиваемые обои, два внезапных велосипеда для совместных прогулок в парк постепенно теснили и выжили Киру в пустую квартиру отца. Ну, то есть раньшеотцову. Теперь Кирину личную, даже по документам.
– Там ещё с рифмой было. Думаешь, надо в стихах? – неожиданно спросила мама.
Не сразу понятно, что речь до сих пор о венке. Какие стихи? Что могли написать, какое-то «любимому мужу, отцу, почившему молодцу»?
– Не, не надо. Чужих-то слов ему и при жизни хватило, – отозвалась Кира.
То ли скрипнули зубы, то ли пыль на зубах.
Ветер гонял верхний слой песка, невыносимо кричали птицы. Здесь их полно всяких разных. Верно, кормятся у мертвецов. И где-то вдали, как будто в насмешку, играла со временем главная птичка, с которой так надо дружить.
Одинаковые ряды могил, и – неожиданно, жутко – ангел с лицом нежным и печальным, с бесцветными глазами, зрачки – вмятины в камне.
Кира застыла у ангела.
Мама мягко толкнула в плечо – ну пойдём, такси ждёт.
Созывают и остальных – эй, у нас тут свободных два места. Кира смотрит в окно: вдоль дороги крохотная трясогузка перебирает ножками мелко-мелко, как на роликах едет, вспархивает на сваленные горой покрышки – может, в холода поджигать, чтобы было полегче копать мёрзлую твёрдую землю, может, в память об ангелах-престолах. Колёса, свернувшись в клубок, позакрывали глаза: спи один, спи другой, спи бесконечное их число, некого тут сторожить. Кира отвела взгляд – не встретиться бы глазами.
Еду на поминки – это же были поминки? – готовили в мрачном кафе с названием то ли «Радость встречи», то ли просто «Встреча», без радости, то ли ещё как-то так. Тут, судя по прейскуранту, гуляли свадьбы и юбилеи; Кира прикидывала в уме, что же проводится чаще. Сладкий рис с сухофруктами выглядел непривычно, как будто насобирали с тарелок завтраки в детском саду, как будто просто играли.
Пришли коллеги, один взял и ляпнул: «В четверг, на заседании кафедры, он был ещё жив».
Захотелось переспросить: «Точно?», но вовремя прикусила язык. И сказала себе: «Отец мёртв». Мысль была непривычна, и отчего-то в её голове прозвучала как национальность, будто «кто», не «каков». Кира как дочь, выходило, наполовину такая. Если отец оказался из этих, насколько велик шанс на репатриацию к мёртвым?