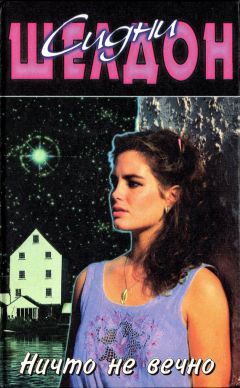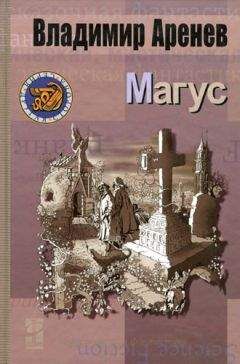Николай Гарин - Таежная богиня
— Я отбываю срок, — все так же спокойно и ровно проговорил парень, — вернее, досиживаю, в июне “откинусь”, то есть выйду на волю.
— Вот как? — Лере стало еще более не по себе.
— Есть такая форма снисхождения, кому остается немного, — “химия”, может, слышали? — И, не дожидаясь ответа, пояснил: — Это условное освобождение и поселение вблизи зоны. Ушма, куда мы едем, и есть лагерь “химиков”.
Неожиданно тупая боль в желудке заставила Валерию застонать, она стала проклинать себя за то, что неосмотрительно оставила в рюкзаке лекарства. Мысли ее заметались. Что делать?
— Скажите, — еле слышно прошептала Лера, — а скоро остановка будет?
— А что случилось? — в свою очередь спросил водитель и тут же ответил: — Часа через три-четыре. Вам необходимо выйти?
— У меня там, в рюкзаке... лекарство от желудка надо взять, — плохо соображая от боли, проговорила Валерия и обхватила живот.
— Сидите, я сейчас, — водитель мягко остановил машину, открыл дверцу и прыгнул прямо с подножки на снежный отвал, а потом и за него. Провалившись в снег по пояс, он догреб до ствола дерева и почти сразу вернулся.
— Что, что случилось?! — проснувшись, всполошенно засуетился прапорщик.
— Вот, — отряхиваясь от снега, шофер протянул Валерии горсть янтарных комочков, — положите в рот и, когда они растают, жуйте и глотайте слюну, поможет.
Валерия высыпала в рот все, что парень ей дал, и, терпя горечь во рту, стала ждать, осторожно перебирая комочки языком.
— Это лиственничная смола, первое дело при желудочных болях, — как взаправдашний доктор, проговорил парень.
— Жуй, жуй, девонька, Анатолий у нас грамотный, плохому не научит, — неожиданно проговорил прапорщик, не прерывая сладкую дремоту.
И действительно, через какое-то время Валерия почувствовала, как боль стала затихать. Она выпрямилась и впервые за дорогу посмотрела на парня. Ну, парень не парень, а лет где-то слегка за тридцать, попробовала угадать она. Обыкновенное лицо с чуть приплюснутым и пригнутым к верхней губе кончиком носа. Тонкие ноздри. Губы и брови в мелких шрамах. Особенно портил лицо бугристый шрам, что шел от правого уха до середины щеки. Широкие, костистые руки парня были расписаны синими вензелями. Даже на пальцах синели “кольца” и “перстни”. Валерии хотелось заглянуть в глаза, но парень неотрывно смотрел на дорогу.
— Еще лучше, — продолжил Анатолий с прежним спокойствием, — попить медвежью желчь. Вот она действительно помогла бы. Да и медвежий жир в придачу...
— А где ее взять? — с удовольствием поддержала разговор Валерия.
— У манси, где ж еще. Это лучшее лекарство. Попробую достать, пока вы по горам ходите, — добавил Анатолий и, едва улыбаясь, взглянул на Валерию. Когда их глаза встретились, Валерии показалось, что она его где-то раньше видела. Нет, не то банальное чувство, которое обычно приходит в подобных случаях: “Ах, кажется, мы с вами уже где-то встречались!..”, а совершенно твердое убеждение, что вот так же когда-то она уже смотрела в эти твердые и спокойные серые глаза, до краев наполненные тоской и силой. Такие глаза бывают у победителей, мелькнуло в Лериной голове, или... у уголовников.
— Скажите, — робко проговорила девушка, — а за что вас... ну, посадили? — И тут же торопливо добавила: — Простите, ради Бога, если не хотите, не отвечайте.
— Действительно не хочу, — прежним тоном ответил Анатолий, — долго рассказывать и неинтересно.
— Статья сто семнадцатая, двойное убийство при отягчающих обстоятельствах, — неожиданно проговорил “спящий” прапорщик. И добавил: — Пятнадцать лет строгого режима. Но это, — военный широко и громко зевнул и почмокал толстенными губами, — это, милая моя, еще не все. До этого три года на “малолетке” по статье двести шесть — “хулиганка”, или по их, — “бакланка”.
— Как?! И вы провели здесь все эти годы?! — вырвалось у Леры.
— Три года под Саратовом, полтора года в тюрьме, остальные здесь, — чуть строже, чем прежде, проговорил Анатолий.
— С ума сойти, — опять не удержала своих эмоций Валерия, — половину жизни...
— Он у нас этот, как его... феномен, вот, — не открывая глаз, прервал Валерию прапорщик, — от звонка до звонка в натуре. Здесь окончил среднюю школу, потом автодорожный техникум. Последние два года руководит строительством дорог.
— А когда выйдете отсюда, что будете делать? — Валерия справилась с собой. Ей вдруг стало интересно знать все об этом человеке. Ей нравилась завораживающая медлительность в его словах, хрипловатость и твердость голоса. Она чувствовала в нем силу и, как ни странно в его теперешнем положении, — независимость.
— Не знаю, сначала досидеть надо, а там видно будет. Хотя мечта — мосты строить, — тихо ответил он. Было заметно, что парню хочется поговорить, поспрашивать вольных людей, как там на свободе, что его ждет.
— У него, милая девушка, столько книг, вы бы знали, я столько в руках за всю жизнь не держал, а не то чтобы читать. Он с вами и по-английски может поговорить...
— Степаныч, ты б лучше поведал нашей попутчице, каких косачей добыл в прошлую субботу, — резко перевел разговор на другую тему Анатолий.
— О, это сеанс! — прапорщик чуть не подпрыгнул на своем месте, окончательно сбросив дремоту. — Залег, значит, я на токовище еще затемно, — начал он в сотый раз рассказывать об удачной охоте...
В кузове было далеко не так уютно, как в кабине. Первое время, шокированные неожиданным грузом, стоявшим посередине кузова, никто между собой не разговаривал. А когда машина пошла по замерзшему болоту и запрыгала на кочках, то запрыгала, точно заплясала, и крышка гроба, стала сползать в сторону и свалилась бы, если бы ее вовремя не подхватили внимательные солдаты. Но все успели увидеть то, что лежало внутри.
Никита почему-то думал, что гроб пустой, но когда крышка съехала, ему стало нехорошо. Неестественно и необычно в нем лежал обнаженный труп мужчины в синих ажурных рисунках, покрывающих почти все тело. Лишь несколько коротких порезов с запекшейся кровью на груди и животе говорили о причине его теперешнего положения. После этого и вовсе говорить расхотелось.
Начало смеркаться. Чудовищно хотелось есть. Напряжение в кузове стало невыносимым.
— Ну что, — нарушил тишину и гнетущее напряжение Никита, — как говорится — каждому свое. — И начал расшнуровывать рюкзак. Неожиданно для всех он достал буханку хлеба, полбатона докторской колбасы и начал готовить бутерброды. Все, кто находился в кузове, смотрели на Гердова, как на сумасшедшего. В их глазах было все: и испуг, и презрение, и ненависть, и... голод. А еще через минуту жевали все, кроме закутанного в шубу прапорщика, который наотрез отказался от предложенного угощения. Достали термос с утренним чаем, кружки, галеты.
— Эй, ребята, надо бы как-то и Лерке в кабину передать, — вспомнил внимательный Женя.
Однако в кабине шло приготовление своего “стола”. Прапорщик Головко ловко нарезал на крышке своего командировочного дипломата ароматное, пропитанное укропом и чесноком сало.
— Вы, милая Валерия, такого еще не едали, это настоящее, херсонское. Щас, щас, вот хлебушко, и погодите еще чуток, погодите, сало без горилки...
— Вам это нельзя, Валерия, — твердо проговорил Анатолий.
— Толян, да ты че, в натуре, это ж сало, — проглотив обильную слюну, с возмущением повернулся к водителю прапорщик.
— Вот его-то как раз и нельзя. И колбасу, и все остальное.
— А что можно?
— А вон в бардачке сухарики. Их можно.
Пока перекусывали, совсем стемнело. Лес из сказочного, уютного и доброго превратился в сплошную черную стену. Как миражи, выступали из него таинственные и причудливые силуэты заснеженных коряг. Свет мощных фар выхватывал из темноты незначительное пространство впереди машины да высокие снежные отвалы по краям.
В такие моменты Анатолий особенно остро ощущал одиночество. Ночью ему казалось, что он едет в никуда. Его никто не ждал, никто не провожал. Почти четырнадцать лет перед ним тайга, а вокруг люди с повадками зверей. Да и сам он не подарок.
И вот чудо! Впервые он услышал звон колокольчиков, в нем звучала романтическая мелодия. Анатолий в который раз повернул голову направо и посмотрел на спящую девушку. “Надо же, — он усмехнулся и покрутил головой, будто не веря в реальность, — и не мечталось, и присниться не могло...” Он еще осторожнее повел машину. Колокольные перезвоны продолжали выводить хрупкую мелодию.
“...Вот когда услышишь, как зазвенят, запоют в твоих ушах колокольчики, ты тоже ничего вокруг не услышишь...” — смущаясь, говорила ему мать, вытирая со щек маленького Толи слезы обиды. Как так, думал он тогда, ему приснился страшный сон, мальчик проснулся и позвал маму. Звал, звал, а она никак не шла. Тогда он встал с кроватки и открыл дверь родительской комнаты. Стало обидно, что папа с мамой не спали, они целовали друг дружку, лежа на постели, и не слышали, как он их зовет. “Почему, — спросил он тогда их, — почему вы не слышите, что я вас зову и плачу?!”