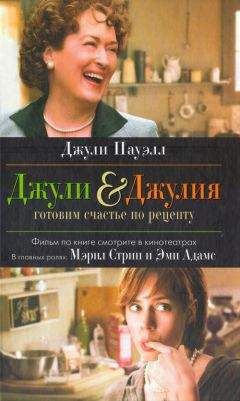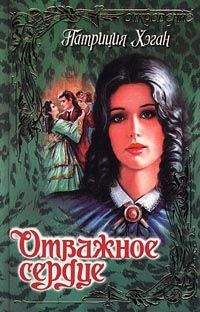Николай Веревочкин - Белая дыра
А, главное, было бы из-за чего. Хотя, если задуматься, у каждого найдется причина повеситься. Случалось, что люди лишали себя жизни потому, что живот шнурки на ботинках мешал завязывать. У Охломоныча же причина была посолиднее.
Его укусил собственный пес Полуунтя.
Копался человек по обыкновению в проржавевшем нутре недоделанной машины, а Полуунтя, коварное животное, подкрался втихаря сзади и тяпнул, подлец, в самую что ни на есть левую ягодицу. Аж хруст пошел. То ли сослепу, то ли оголодал, то ли самого накануне бешеный клещ укусил, то ли припомнил чего да сделал вид, что перепутал хозяина с чужим человеком, — поди узнай теперь, что у него в лохматой башке творится.
От такого неожиданного коварства Тритон Охломоныч вздрогнул и крепко зашиб затылок о карданный вал.
Конечно, следовало бы первым делом наказать рыжую псину поленом и немедленно, вприпрыжку бежать к доктору Бравому за медицинской помощью.
Но сорвавшийся с цепи старый кобель звенел остатками кандалов где-то на краю деревни, пугая гусей и вызывая ревнивый лай привязанных собак. Что же касается доктора Бравого, то до него было еще дальше. Жил-то он теперь не на краю Новостаровки, а на другом краю планеты, в далекой Германии. И хотя фамилия Бравый больше соответствовала его внешности и характеру, правильнее было бы называть доктора Брауном. Больницу же за вторым болотцем закрыли на третий год после перестройки, аккурат в годовщину отъезда главврача на старую новую родину.
Бешеным или не бешеным был Полуунтя, укусивший хозяина, Тритон Охломоныч мог определить без анализов лишь спустя некоторое время по собственному поведению. Хотя сомневаться не приходилось. Порядочные псы так не поступают.
Перекинул Охломоныч моток веревки через плечо и в последний раз посмотрел на свой дом со стороны огорода. Растрогался и перед самой дальней дорогой в своей жизни осторожной присел правой половинкой на чурбан. Тоска, в последние годы не покидавшая его, совсем озверела — так и набросилась, так и пошла трепать душу.
Да разве это жизнь? Что ни день — новая беда: то Союз развалят, то плетень завалится. Только его кольями подопрешь — баня сгорит. Думаешь, как лес для новой достать, — жена уйдет. И так каждый день — то МТС закроют, то родной пес ползадницы откусит.
Раньше, когда с Тритоном Охломонычем случалась беда, он закрывал глаза и представлял себя громадной, раскинувшейся на полпланеты страной — голова, ага, в Прибалтике, ноги на Камчатке отдыхают. А по нему тепловозы туда-сюда шуруют, народ в отпуск развозят, самолеты и спутники над ним снуют; в степных краях, естественно, уборка зерновых вовсю идет, аж пыль столбом; с левого бока ледокол «Ленин» льды в Баренцевом море с грохотом крушит, весь живот тайгой зарос. В городах сутолока, в селах раздолье, от заводов дым выше облаков. Широка, идрит твою, страна моя родная! И так на душе от таких масштабов спокойно делается. А где беда? Что за беда? Да это не беда, а так — смех один.
Сейчас же, закрыв глаза, он оказался в таком полном ничтожестве и таком безнадежном одиночестве, что не почувствовал ничего, кроме потерянности, черноты и страха перед неизвестным. Муравей на льдине счастливее его. У Охломоныча украли все, что он имел, — страну. Оторвали от тела с кровью и мясом. И вот сидит он у ржавого остова недоделанной машины на излохмаченном, измочаленном топором чурбане всеми брошенный и забытый — маленький, жестоко покусанный, плешивый, лысина в конопушках…
Кому теперь нужна его машина, для кого ее делать? Да и сам он кому нужен? Чего же ради жить? Чего ради просыпаться утром и колготиться без смысла весь день? Конечно, смысл жизни отчасти заменяла выпивка. Но лишь отчасти и на время. Что за радость такая — жить, как живут гуси, свиньи, коровы и сосед Дюбель, который тоже понимает жизнь как добывание жратвы. И плевать ему со скворечника на то, что делается за околицей. Он же сразу, как ненужное, забыл все, чему его десять лет учили в школе, — всю эту историю и химию с физикой. А ведь, если разобраться, какой ужас жить сейчас в такой дыре, как Новостаровка. Каждый месяц, как резинкой, стирают два, а то и три дома. Разлетаются по планете новостаровцы, задушевные приятели. Навсегда. Как умирают. А с ними много чего связано. Жизнь, считай, прожита. Будто из любимой книги листы выдирают и по ветру разбрасывают. Скоро от села селище останется — бугры да ямы, поросшие бурьяном, крапивой да лебедой с коноплей. Проснешься ночью — и такая тишина на тебя навалится. Вот-вот сердце раздавит. Лежишь, смотришь в темноту да прошлое вспоминаешь.
Уж так паскудно устроено в природе, что самые счастливые дни — самые короткие. И всегда в прошлом. Даже не дни, а часы и минуты. А когда вспоминаешь их, на душе делается еще печальнее.
Самый счастливый день у Тритона Охломоныча, далеко не будем ходить, случился в восемьдесят пятом году, накануне больших похорон. А после этого не то что дня, но и секунды счастливой у него не было. Не обломилось.
Вспоминая тот день, Охломоныч чувствовал себя воздушным шаром, гондолой, надуваемой горячим воздухом. С утра его распирало, распирало от радости, а к вечеру он взлетел и торжественно поплыл в низких осенних небесах. Родная улица Первоцелинников покачивалась в тумане. Из облаков выступали углами незнакомые дома. Штакетниковые ограды выстроились поротно рядами почетного караула. На небе, земле и в душе было просторно и ветрено.
Тритон Охломоныч возвращался с работы домой на приличной кочерге, если не сказать на рогах.
Его швыряло через дорогу от ограды к ограде. А улицы в целинных поселках, кто не знает, ох, и широкие! Как и любому счастливому человеку, Охломонычу хотелось петь, но на память приходили лишь несколько слов:
«Когда б имел златые горы
И реки, полные вина…»
Строки эти он и повторял несметное число раз и так громко, что глухая на оба уха бабка Шлычиха, живущая на другом краю деревни, всполошилась в своей запертой на два крючка мазанке: «Уж не режут ли кого?»
Слуха у Охломоныча не было.
Но что делать человеку без слуха, если хочется петь? Выходит, если человек жить не умеет, ему и жить не надо?
Сапоги чавкали, освобождаясь от осенней густой и липкой грязи. Ватная телогрейка расстегнута. От пропитанной теплым потом рубашки струится пар, терпко пахнущий хмелем и мазутом. Тесемки уцененной шапки развязались, и уши ее болтались то как уши у дворняжки, то как крылья у молодой вороны, пытающейся взлететь.
— Одна была песня у волка — и ту отобрал, кум? — сурово приветствовал Тритона Охломоныча положительный сосед Багор Кадыкович (где и кому он теперь, трезвая душа, читает мораль?).
— Отбирать-то не у кого, Багорушка, — последнего серого в прошлую зиму Дюбель в ольшанике застрелил. Вот он, подыхая, свою песню мне и завещал, — ответил Охломоныч, растрогался собственной выдумкой и горестно высморкался.
— По какому поводу красный день календаря в будни? — полюбопытствовал Багор с легким осуждением.
— Есть повод, есть — слушайте «Последние известия». Работают все радиостанции Советского Союза! За особые заслуги перед человечеством…
С этими торжественными словами, с трудом миновав столб на бетонной подпорке, стоящий посредине лужи, Тритон Охломоныч причалил к ограде родного палисадника. Как моряк после кругосветки. Опершись спиной о штакетник, он яростно принялся освобождать сапоги от грязи популярным в Новостаровке способом: взбрыкивал ногами — и жирные комья чернозема разлетались куда Бог пошлет. Одни ошметки бултыхались в придорожную канаву, полную воды, другие долетали до разбитого тракторными гусеницами грейдера, а некоторые летели еще дальше — до самых белостенных изб на другой стороне улицы. Надо сказать, все дома в Новостаровке выглядят слегка конопатыми.
— А у тебя, сосед, полон двор гостей, — предупредил из облака с тайным злорадством доброжелательный сосед.
— Гость не гвоздь — в стенку не вобьешь, — ответил беззаботно Охломоныч и, набрав полную грудь осеннего тумана, излил в окружающее пространство страстную мечту о заветной стране, где златые горы омываются винными реками.
Сердечно махнув на прощание рукой невидимому в тумане соседу, Тритон Охломоныч, перебирая руками штакетник и шурша кленовыми листьями, сугробиком скопившимися вдоль ограды, стал подкрадываться к двери. В последний момент дом предательски качнулся и вроде бы как подпрыгнул, однако Охломоныч, по опыту зная коварные эти повадки, успел-таки схватиться за дверную ручку.
Пес Полуунтя, учуяв знакомый запах табака и мазута, замахал было слежавшимся лохматым хвостом, но, унюхав еще и винный дух, шустро юркнул в оббитую для теплоты кошмой и устланную от блох полынью конуру. Пьяный хозяин имел обыкновение пинать радостно приветствующего его Полуунтю, и это обстоятельство огорчало пса. Выглядывая из конуры, он тихо, чтобы не раздражать хозяина, рычал. Впрочем, это рычание было похоже на мурлыканье и время от времени переходило в скулеж. Жизнь у Полуунти была скверная. Порой ему казалось, что он так и родился — с цепью и в конуре. Подлые утки, дробно постукивая плоскими клювами, пожирали остатки вчерашнего хозяйского борща из собачьей миски, а Полуунтя лишь печально косил глаза на этот грабеж.