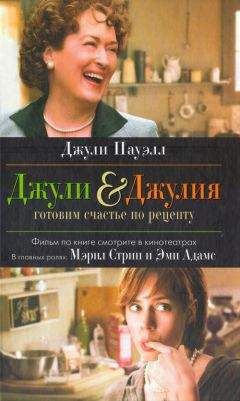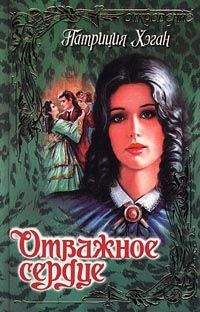Николай Веревочкин - Белая дыра
Но однажды холодным утром живая тень закрыла оконце. Сквозь затуманенное стекло кто-то смутный всматривался внутрь землянки.
В бледном пятне лица с синими провалами глаз Прокл угадал девочку-старуху.
Когда лицо, медленно синея, удалилось от окна, а тень, выцветая, превратилась в небо, Прокл тихо поднялся. От этих усилий он запыхался, словно поднялся на заснеженный пик. Сердце сотрясало Вселенную.
Прокл прижался спиной к стене у дверей, и, когда вошла преследовательница, он толкнул ее на жалкие останки непрочитанных книг. В миг, когда его ладони коснулись слабых детских плеч, отвращение и жалость к этому бритоголовому существу вытеснили страх. Гнилозубая упала на пол, как падает неживое, и сложенные у стен в поленницы прочитанные книги с шорохом обрушились на нее, похоронив под бумажной лавиной.
Прокл выскочил вон из землянки и побежал что было сил прочь.
И хотя сил было мало, но очищенное голодом тело казалось совершенно невесомым. Он не бежал, а как бы летел сквозь отцветший полынный лес. И если бы не густота бледно-синих ветвей, Прокл не сомневался, что, стоило чуть сильнее оттолкнуться от земли, и он бы взлетел.
Шелестя юбками и повизгивая, девочка-старуха настигала его. В неукротимой злобе она швыряла в него растрепанной книгой. Если бы всякий раз преследовательница ни останавливалась, чтобы поднять ее, Прокл был бы давно схвачен.
Прокл бежал, не оглядываясь, даже когда, трепеща листами, книга ударялась о спину. Он знал, что стоит ему оглянуться — и невесомое тело его остановится, парализованное страхом.
Лес редел. Сквозь голубые стволы Прокл увидел надвигающуюся из степи стену густого молочного тумана — громадное, клубящееся облако ползло слизняком на брюхе. Прокл, задыхаясь, ускорил бег, торопясь спрятаться в его непроглядности.
Прокл нырнул в туман, и облако вспучилось безветренным и беззвучным, прозрачным взрывом. Вспузырилось пространство, отсекая преследовательницу.
Бестелесные, прозрачные ладони оградили Прокла от напастей прошлой жизни и плутанья по преддырью.
Внутри пузыря все было по-другому: запахи, звуки, настроение.
Прокл осторожно потыкал пальцем оболочку, опасаясь проткнуть ее ногтем. Была она не толще мыльного пузыря и совершенно невидима. Лишь солнечные блики играли порой на невидимых стенках, да на внешней стороне от земли клубился густой туман, обнаруживая выпуклость. Пузырь мягко спружинил под пальцем. Прокл надавил чуточку сильнее — броня! Холодная, как лед, прозрачная броня.
Маленькие детские руки, в цыпках и ссадинах, просветились из внешнего тумана. Грязные ногти в тщетной злобе царапали воздух. Между ними и пальцем Прокла не было ничего, однако ни звука не доносилось ОТТУДА.
Прокл осмотрел мир внутри пузыря.
Слева тревожной глубиной синело знакомое озеро. Ослепительно белые гребешки волн передразнивали своей стремительностью кружащих над ними чаек. Крики их были свежи, как первые звуки Земли. Справа на красных ногах реликтовых сосен и белых стволах берез как одна большая крона шумел знакомый бор. Его можно было узнать с закрытыми глазами — только по грибному запаху. Не было никаких сомнений — Прокл видел Глубокое озеро и Бабаев бор. Но на знакомых холмах, где когда-то стояла Новостаровка, сияло светлое селенье из снов, при виде которого не было сил сдержать слезы. Жилища, в которых достоин жить человек.
«Ну, вот и вернулся я в свою небесную Новостаровку», — подумал Прокл, и душа его возликовала.
Он стоял на дороге, уткнувшейся в стену пузыря. Гладкой и теплой, как доски пола деревенского дома в летнюю жару. Дорога была разрисована травами и лесной земляникой. По ней навстречу Проклу шел белобородый, слегка хмельной человек в белой рубахе навыпуск. На темной лысине его сидела бабочка. Когда человек подошел настолько близко, что можно было разглядеть расцветку ее крыльев, — пронзительно синие иконные глаза заглянули ему прямо в душу.
Прокл, поклонившись, поздоровался, не зная, как нужно вести себя в раю.
Старик был босым. Обе ноги были правыми.
— Здорово, коли не шутишь, — ответил хмельной ангел и почесал в недоумении затылок, вспугнув бабочку. — Вроде нездешний, а без нимба. Почему так?
Прокл поднял глаза, пытаясь разглядеть пространство над собственной головой, но, не обнаружив сияния, в смущении пожал плечами. Выходило, что в рай он попал не по правилам. Без оснований на то.
Старик между тем подошел к стенке пузыря за спиной Прокла и деловито попинал ее. Не обнаружив изъяна в ограде, он сказал:
— Оно и хорошо, что без нимба. Одна вонь от них да смрад. Иной зайдет, особенно из начальства, — веришь нет, дышать нечем. Будто болон жгут.
Старик прошел вдоль прозрачного забора влево, вправо, все общупал — нет дыры.
— Где проскочил-то? — спросил он наконец.
Прокл ткнул рукой в пространство, откуда тотчас же показалась худенькая ручка, испугавшая местного ангела.
— Эге, понятно, — сказал дед после недолгого размышления, — потому должно быть и проскочил, что без нимба. Был бы нимб — хрен бы ты проскочил.
Черты небесного жителя отдаленно напоминали Проклу старого пьяницу Митрича. Однако главная примета не совпадала. Одна из ног у ТОГО Митрича была деревянной. Это Прокл хорошо помнил, поскольку Митрич был ярым болельщиком «Целинника», и, когда команда проигрывала, он, по обыкновению хмельной, выскакивал на поле, пытаясь личным участием помочь в беде любимой команде. «Куда ты на деревяшке-то?» — пытались вразумить его земляки, изловив и выводя с поля. На что Митрич, подумав, отвечал: «Зато бутсов не надо. Гол не забью, так я этим заринцам все ноги переломаю». Несмотря на одноногость, был он человеком веселым, можно даже сказать оптимистом. Понятно, что частушка автора не имеет, но одну из них точно сочинил Митрич:
Хорошо тому живется,
У кого одна нога:
У того яйцо не трется
И не надо сапога… Ийех!
— Митрич? — спросил без особой надежды Прокл.
— Я за него, — охотно подтвердил предположение старик и прищурился, вглядываясь в лицо незнакомца. — Кто такой? Почему не знаю?
Прокл назвался.
— Проклуша! — не поверил своей радости Митрич, глаза его заслезились, и он раскрыл объятья.
— Где ж ты скитался, простая душа? — приговаривал он, тиская земляка железными крестьянскими лапами. — А я смотрю — что за чудо? Вроде и не местный, а без нимба. Сейчас редко кто без нимба там-то. Хороший человек, думаю, раз без нимба. Я же помню, Проклуша, как ты заринцам с самого центра плюху в девятку положил. Так сетка и затряслась. Ах, ты, землячок мой дорогой! Худо там-то пришлось? Худо, худо… Кому там хорошо-то сейчас? Ишь бородой-то похлеще меня зарос… Смотри-ка — седина в бороде. Ты ж еще молодой?
Давно уже Проклу так рад никто не был. Растрогался Прокл. Умилился. Губы так и заплясали. Мужик горе всегда стерпит, а вот на радость — слаб. Ой, слаб! Обильно потекли скупые мужские слезы. Как хорошо получилось, что первый встречный человек в раю оказался новостаровцем.
— Давно ты здесь, Митрич?
— Я то? — не понял земляк, — так и не уезжал я никуда из Новостаровки.
— Это — Новостаровка? — не поверил Митричу Прокл, разглядывая дрожащее через слезу чудо за спиной своего верного болельщика.
— Неужто там, в запузырье, о нас не слышал? — удивился и даже, кажется, слегка обиделся Митрич, отстраняя от себя земляка.
Прокл смутился и отрицательно покачал головой.
— Ну, Проклуша, долгая это история, — вдохновился Митрич, — такая это история, что без пузыря никак не разобраться.
С этими словами засунул он по локоть руку в карман штанов и, недолго пошаривши там, извлек початую бутылку, заткнутую луковицей, — тут тебе и выпить, тут тебе и чем закусить есть.
Митрич уселся прямо посреди разрисованной дороги и похлопал ладошкой по ее приятно теплой и шершавой поверхности, приглашая нежданного земляка для долгого задушевного разговора.
ЧАСТЬ 2
Дыра
Смотал Тритон Охломоныч бельевую веревку: решил все-таки после некоторого раздумья идти вешаться в Бабаев бор.
Дорога, конечно, неблизкая.
Удавиться, если срочно приспичило, можно и в сарае. Это да. Но уж слишком там пахло мышами и плесенью. Посинеешь в сумраке, а по тебе пауки ползают. Тьфу!
Да еще и сквозняки.
Куда как приятнее висеть в лесу. Прохладный ветерок тебя раскачивает. Травами пахнет, грибами. Листочки шуршат, птички поют, ветка слегка пружинит… Совсем другое дело!
Ты посмотри на него, барин какой! В сарае ему, видишь ли, западло вешаться.
А, главное, было бы из-за чего. Хотя, если задуматься, у каждого найдется причина повеситься. Случалось, что люди лишали себя жизни потому, что живот шнурки на ботинках мешал завязывать. У Охломоныча же причина была посолиднее.