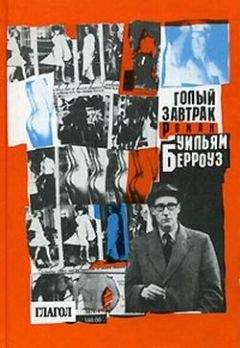Томас Пинчон - Радуга тяготения
А в Пиратовом домике все запели дорожную песнь противодействия, и Томас Гвенхидви, все-таки избежавший диалектического проклятья Книги Стрелмана, аккомпанирует на чем-то вроде кроты из розового дерева, что ли:
На плече твоем рыдали,
Эль слезою разбавляли,
И от Ихних песен разве что рыдать,
Ты же честно полагал, что души Им по барабану,
А Они тебя не стали извещать.
Но я скажу тебе, что тут —
Не единственный маршрут,
Нахлебался ты с лихвой уже говна…
Им пришлось тебя купить,
Но на Них пора забить —
Это не сопротивленье, а война.
— А война, — поет Роджер, въезжая в Куксхафен, мимоходом спрашивая себя, как Джессика подстриглась для Джереми и как этот невыносимый педант будет смотреться с камерой ЖРД навернутой на голову, — а война…
Зажигай, чтоб лучше дверь была видна:
От любви к Ним — лез на стену,
Но мы валим Их систему, —
Это не сопротивленье, а война.
□□□□□□□
Потрескивая так сине и водянисто, эти сосновые ветки вроде вообще тепла не дают. По всему расположению Роты С валяется конфискованное оружие и боеприпасы — отчасти в ящиках, остальное навалено кучами. Не первый день Армия США прочесывает Тюрингию, врывается в дома посреди ночи. В сферах повыше умы занимает определенная ликант-ропофобия, сиречь страх перед вервольфами. Зима не за горами. Скоро в Германии станет не хватать еды или угля. Весь урожай картошки, к примеру, под конец войны шел на производство спирта для ракет. Зато стрелкового оружия по-прежнему до чертиков, а также боеприпасов к нему. Где не можешь прокормиться, берешь оружием. Оружие и пища прочно сцеплены в правительственном уме с тех самых пор, как появились на свете.
На горных склонах то и дело вспыхивают росчисти, яркие, как волкона в июле от церемониального касания «зиппо». Рядовой первого класса Эдди Пенсьеро, присланный сюда, в 89-ю дивизию на замену, а также ярый поклонник амфетаминов, сидит, нахохлившись, чуть ли не в самом костре, дрожит и разглядывает дивизионную нашивку на рукаве, которая обычно похожа на кластер ракетных носов, видимый из расширяющейся жопы, вся черная и оливково-унылая, а теперь смотрится еще диковинней, о чем Эдди поразмыслит через минутку.
Дрожать — одно из любимейших времяпрепровождений Эдди. Не той дрожью, коей дрожат нормальные люди, мурашки, что вроде как строем прошлись по твоей могиле и пропали, но дрожью, которая не прекращается. Сначала трудно привыкнуть. Эдди — знаток тряски и трепета. Он даже умеет неким странным образом их читать, как Зойре Обломм читает косяки, а Миклош Танатц — рубцы. Но дар сей не ограничен дрожью Эдди — о нет, он читает и чужие дрожи! Ага, по одной входят и все вместе, группами (в последнее время Эдди отращивал у себя в мозгу нечто вроде дискриминатора — учился их сортировать). Самые неинтересные — дрожи, у которых совершенно постоянная частота, совсем без вариаций. За ними по интересности идут частотно-модулируемые — то чаще, то реже, зависит от поступающей с другого конца информации, где бы тот конец ни располагался. Затем нерегулярные — эти меняются как по частоте, так и по амплитуде. Их надлежит раскладывать в гармонический ряд Фурье, а это чуточку труднее. Часто задействуется кодирование, некие субгармоники, некие силовые уровни — чтоб разобраться, нужно кой-чего уметь.
— Эй, Пенсьеро. — Это сержант Эдди, Хауард Ученник, он же «Непроворный». — А ну слазь с костра, жопой ать-два.
— Ой, сержант, — стучит зубами Эдди, — да лана. Я ж ток погреться.
— Ник-ких ты-гав-орок, Пенсьеро! Там один полкан стричься хочт прям щас, так что марш!
— Оххх, ребзя, — бормочет Пенсьеро, переползая к спальнику и роясь в вещмешке, где у него расческа и ножницы. Он ротный цирюльник. Стрижки его, которые часто занимают часы, а то и дни, по всей Зоне узнаются моментально — в них, волосок к волоску, выражена вся целеустремленность бензедринового глотаря.
Полковник сидит и ждет под электролампочкой. Питается лампочка от другого рядового, что затаился в тени и крутит сдвоенную рукоятку генератора. Это друг Эдди — рядовой Пэдди «Электро» Макгонигл, ирландский паренек из Нью-Джерси, один из миллионной добродетельной и приспособленной к жизни городской бедноты, что знакома вам по кино: видели, небось, как они танцуют, поют, развешивают на веревках белье, напиваются на поминках, переживают, что дети по кривой дорожке пойдут, Ате-ец, я ж уже прямы не знаю, мальчонка он у мя хроший, да с такой гадкой кодлой спутался, ну и дальше все эти жалкие голливудские враки, вплоть до и включая кассовую бомбу текущего года «Растет в Бруклине дерево». С этим кривошипом Пэдди практикует дар Эдди, только в другой форме: он передает, а не принимает. Лампочка вроде горит ровно, а на самом деле это последовательность электрических пиков и равнин, разворачивающаяся со скоростью, которая зависит от того, насколько быстро Пэдди крутит рукоятки. Дело в том, что нить накаливания притухает так медленно, что подоспевает следующий максимум нагрузки, и мы, одураченные, видим постоянный свет. А на самом деле это череда неуловимых света и тьмы. Обычно, то есть, неуловимых. Смысл послания Пэдди никогда не осознает. Оно отправляется мышцами и скелетом, тем контуром его тела, что научился работать источником электроэнергии.
Эдди Пенсьеро дрожит и особо не обращает внимания на эту лампочку. У него у самого довольно интересное послание. Кто-то поблизости в ночи играет блюз на губной гармонике.
— Эт чё? — осведомляется Эдди, стоя под белым светом за безмолвным полковником в парадной форме. — Эй, Макгонигл, — ты чёнть ссышь?
— Ага, — глумится из-за генератора Пэдди, — я твой выхлоп ссышу: вона полетел, крыльями хлопает, из сраки у тя. Во чё я ссышу. Гы, гы!
— Ай, херня! — отвечает ему Эдди Пенсьеро. — Н-никакого выхлопа та не ссышь, тупая картошья морда.
— Эй, Пенсьеро, а знаешь, чё на новом сонаре от ета-льянской подложки ссыхать? А?
— Э… чё?
— Пиннньььсольди-сольди-сольди ма-ка-ронь! Во чё! Гы, гы, гы!
— Нах пшел, — грит Эдди и начинает причесывать черно-серебристые волосы полковника.
Едва расческа вступает в контакт с головой, полковник раскрывает рот:
— В обычных условиях на прочесывание мы тратим не больше 24 часов. От заката до заката, из дома в дом. В начале и в конце эдакие чернота и золото, силуэта, расшатанные небеса чиста, как в циклораме. А тут закаты — я даже не знаю. Может, что-нибудь где-нибудь взорвалось, как думаешь? Ну правда — где-нибудь на Востоке? Новый Кракатау? Под другим именем, уж не менее экзотичным… краски-то сейчас совсем другие. Вулканический пепел, либо иное тонко диспергированное вещество, зависшее в атмосфере, странно преломляет цвета. Ты это знал, сынок? Трудно поверить, правда? Внизу подлиннее, если можно, а сверху ровно так, чтоб не надо было причесывать. Да, рядовой, краски меняются — да как! Вопрос только в том, есть ли у этих перемен определяющая? Модулируется ли повседневный солнечный спектр? Не случайным порядком, но систематически, вот этим неведомым мусором в господствующих ветрах? Глубокие вопросы, тревожные… А сам откуда, сынок? Я из Кеноши, Висконсин. У родни моей там маленькая ферма. До самого Чикаго лишь заснеженные поля да заборные столбы. Старые машины на чурбаках тоже в снегу все… здоровые белые боровы такие… Висконсин весь как похоронная служба.
— Хе, хе…
— Эй, Пенсьеро, — окликает Пэдди Макгонигл, — ты эт щщё ссышь?
— Ага, помойму гармоника, — Пенсьеро деловито зачесывает отдельные волоски, подрезая каждый на свою длину, снова и снова возвращаясь подправить тут и там… Одному Богу известно их число. Одна Атропа отсекает их по-разному. Поэтому рядовым Эдди Пенсьеро нынче владеет Бог в аспекте Атропы, неотвратимой.
— У меня во твой гормон как, — глумится Пэдди, — во где! Гля! Кожыная флейта-макаронина!
Всякая долгая стрижка — переход. Волосы — еще одна модулируемая частота. Предположим красоту, в которой все волоски некогда были распределены идеально равномерно, — некую эру невинности, когда все они идеально прямо лежали по всей голове полковника. Ветры дневные, рассеянные жесты, пот, зуд, нежданные сюрпризы, трехфутовые паденья на грани сна, следомые небеса, вспомненные позоры — все за прошедшее время записалось на этой идеальной решетке. Нынче проходя ее насквозь, реструктурируя ее, Эдди Пенсьеро — агент Истории. Вместе с переделкой полковничьей головы бежит и дрожью отмеченный блюз — долгие пробежки в отверстиях 2 и 3 совпадают — во всяком случае сегодня — с проходами в глуби волос, березовыми стволами очень душной летней ночью, подходами к каменному дому в лесистом парке, оленями, замершими у толстого плитняка дорожек…