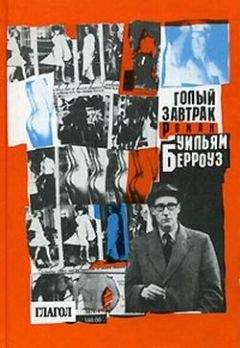Томас Пинчон - Радуга тяготения
— Ja…
— Как они выглядят, ваши очки?
— Таккие пелые…
— С хитрыми такими стразиками по всей оправе, фройляйн? а?
— Ja, ja, und mit[369]…
— И по дужкам тоже они — и-и еще с перышками?
— От страусс…
— Перьями самца страуса, выкрашенными в потрясающе переливчатый синий цвет, торчат по краям?
— Этто мои отшки, ja, — шаря вокруг, грит секретарша, — кте они, прошу фасс?
— Вот здесь! — ногой ХРУСТЬ, очки вдребезги на яркие арктические нарывы по всему ковру Стрелмана.
— Я-вам так скажу, — доносится от Рожавёльдьи из дальнего угла — единственного, кстати, в комнате, что не залит светом, да, тут у нас некая оптическая аномалия: простая и прямая квадратная комната, в Двенадцатом Доме никаких вам полиэдров причудливых форм… и все равно эта странная, необъяснимая призма тени в углу… не один и не два посетителя заглядывали сюда и обнаруживали, что мистер Стрелман не за столом, где ему должно находиться, а стоит в теневом углу — и, что больше всего пугало, яйцом в угол… Сам Рожавёльдьи привязанности к этому Углу не питает — несколько раз пробовал, но выходил, качая головой: «Мис-тер Стрелман, мне-не нравится там, совсем. Ну что за наслаждение от так-ого нездорового переживания. Э?» — воздев одну жуликовато-томливую бровь. Стрелман лишь смотрел так, будто извинялся — не за себя, а перед чем-то за Рожавёльдьи, — и отвечал: «Это единственная точка в комнате, где я чувствую себя живым», — в общем, по этому поводу на Министерский уровень отправился меморандум-другой, можете жопу на кон ставить. Если и дошли до самого Министра, то, вероятно, лишь конторским анекдотом. «О да-да, — качая мудрой старой головой, что заросла овчиной, высокая, почти славянская скула плющит глаз в невнимательном, однако вежливом смешочке, — да, знаменитый Угол Стрелмана, да… ничуть не удивился бы, окажись там призрак, а?» Рефлекторные хохотки от присутствующих мелких сошек, однако же лишь мрачные ухмылки от крупных сох. «Привлеките ОПИ, пусть глянут, — хихикает кто-то с сигарой. — Вот бедняга, решит, будто опять на Войне». «Точно, точно» и «Хорошо сказанул, нормально так» разносятся в слоящемся дыму. Среди этих конкретных сошек розыгрыши — самый писк, что-то вроде классовой традиции.
— Вы нам как скажете, — Роджер уже некоторое время кричит.
— Я-вам так скажу, — опять грит Рожавёльдьи.
— Вы нам скажете «Я вам так скажу»? И все? Тогда надо было сказать: «Я вам так скажу: „Я вам так скажу“».
— Я и сказал.
— Нет-нет — вы сказали «Я вам так скажу» один раз, вот что вы…
— А-га! Но я же сказал это еще раз. Я-сказал это… дважды.
— Но это имело место после того, как я задал вам вопрос, — не станете же вы мне доказывать, что два «Я вам так скажу» были частью одного утверждения, — если только, — это бы значило требовать от меня неразумной, — если только на самом деле, — доверчивости, а рядом с вами это есть в некотором роде, — мы не один человек, а весь диалог был ОДНОИ-ЕДИНСТВЕННОЙ МЫСЛЬЮ йяааагггххх а это означает, — безумие, Рожавёльдьи…
— Мои отшки, — хнычет фройляйн Мюллер-Хохлебен, уже ползая по комнате, Мехико расшвыривает стеклянные занозы ботинком, дабы незадачливая девушка то и дело резала себе ладонь или колено, за ней уже тянутся темные перышки крови, целыми дюймами, и со временем — если предположить, что она столько протянет, — они испещрят весь Стрелманов ковер, как шлейф Бердслеевой мантии.
— У вас прекрасно получается, мисс Мюллер-Хохлебен! — ободряюще кричит Роджер, — а вы, вы… — но умолкает, заметив, что Рожавёльдьи почти невидим в тени, а белки его глаз аж тлеют белым, трепещут по воздуху, то потухнут, то вернутся… Рожавёльдьи стоит определенных трудов держаться в теневом углу. Это место вообще не для него. Во-первых, остальная комната видится в отдалении, словно через видоискатель камеры. А стены — вовсе не похоже, что они… ну, в общем, прочные такие. Они текут: грубо и клейко, рябят, будто стоячий отрез шелка или нейлона, водянисто-серые, но то и дело в их теченьи возникает удивительный островок, совершенно чуждый этой комнате оттенок: шафрановые веретена, пальмово-зеленые овалы, пурпурные лиманы, что расческой вгрызаются в зазубренные комиксово-оранжевые шматы острова, меж тем как над ним кружит подбитый истребитель, сбрасывает баки, затем серебристый парашют, закрылки установлены чуть ли не на полную потерю скорости, колесами в синеву (ни с того ни с сего — такая лютая вдруг синева!) налетает перед самым ударом дроссель закрыт унннххх! ох блядь риф, мы же ебнемся об — ой. О, никакого рифа? Мы-мы в безопасности? Ну да! Манго, я вон там вижу манго на дереве! и-и девчонка — паллно девчонок! Ты гля, офигенные какие, сиськи торчком, этими своими травяными юбчонками колышут, играют на укулеле и поют (хотя почему голоса такие жесткие и крутые, такие гнусавые, как у американских хористок?)…
Добро пожаловать на остров Блевко-Бля-адки-и!
Лизни мою па-пайку — не захочешь уе-зжааааать!
Лунка, что жел-тая ба-нан-ка,
Зависла над, моей ка-бан-кой,
И нам с тобою в хула хуль не поиграть…
А звезды падают на остров Блевко-Бля-адки,
И лавка вкусинькая, как вишньовый пирожок…
Я ггеченгошка-шоколадка,
И та меня на Блевко-Блядках,
Как миссионер — Лейлани, обратай ско-рей, друж-жооок!
Ой-ёй, ой-ёй — меня ж застук-яют, одна, какая-ни-будь красо-точка с ост-рова, провесу, весь оста-ток… жиз-ни тут, жу-я па-пай-и, душис-тые, как пизда, юного рая…
Когда рай был юн. Летчик разворачивается к Рожавёльдьи, все еще пристегнутому ремнями безопасности. Лицо у летчика закрыто шлемом, очки отражают слишком много света, кислородная маска — из металла лицо, из кожи, из слюды. Но вот летчик поднимает очки, медленно — и чьи же это глаза, такие знакомые, улыбаются приветливо, я вас знаю, а вы меня не узнаете? Что, правда не узнаете?
Рожавёльдьи орет и пятится из угла, дрожа, и его слепят лампы на потолке. Фройляйн Мюллер-Хохлебен все ползает и ползает кругами, быстрее и быстрее, уже почти сплошной мазок, истерически квакая. Оба достигли ровно той кондиции, до которой имела целью их довести искусная психологическая кампания Роджера. Тихо, но твердо:
— Хорошо. Итак, в последний раз: где мистер Стрелман?
— В конторе Мохлуна, — отвечают те в унисон.
Контора Мохлуна — в одной пробежке на роликах от Уайтхолла и охраняется чередой комнат с часовыми девушками, каждая — в платьице радикально отличного от прочих цвета (их довольно много, поэтому легко себе представить, что это, прямо скажем, за трехсигменные цвета, если такая их пропасть «радикально различается», знаете, до такой вот степени — ой, ящеричный, к примеру, цвет, вечерней звезды, бледной Атлантиды среди прочих), и Роджер кружит им головы, подкупает их, угрожает им, вешает тюльку и (эхх) да лупит их по сусалам всю дорогу, пока наконец:
— Мохлун, — не колотит в эту гигантскую дубовую дверь, резную, аки каменные порталы неких храмов, — Стрелман, игра окончена! Именем той исчезающе малой порядочности, что позволяет вам прожить день и не попасть под пулю случайного вооруженного незнакомца, откройте дверь. — Рацея довольно длинна, и дверь, сказать по правде, открывается на середине, но Роджер все равно договаривает. Он смотрит в комнату, сияющую ли-монно-лаймово, но решительно пригашенную почти до молочности абсента-с-водой — цвет теплее, нежели того заслуживают морды за столом, однако, быть может, Роджерово появление слегка сгустило краски, — подбегает и вспрыгивает на полированный стол через полированную же голову директора сталелитейной компании, 20 футов проезжает по навощенной поверхности и оказывается перед человеком, который сидит во главе стола с учтивой (т. е. наглой) улыбкой. — Мохлун, я вас раскусил. — Это что же, он поистине проник вовнутрь, очутился средь капюшонов, прорезей для глаз, золотой параферналии, благовоний и скипетра из бедренной кости?
— Это не Мохлун, — говорит мистер Стрелман, прочищая горло. — Мехико, вы уж слезьте со стола, будьте добры… господа, один из моих старых коллег по ПИСКУСу, блестящ, но отчасти нестабилен, как вы, вероятно, заметили — ой, Мехико, ну ей-богу…