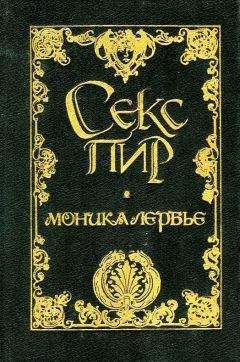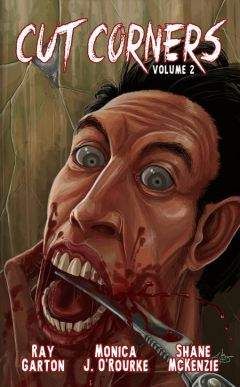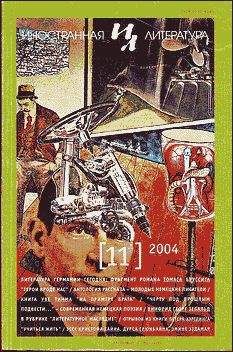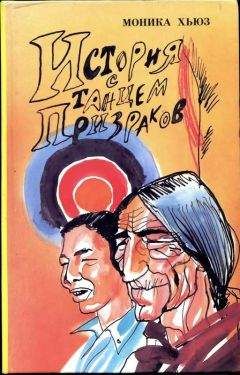Багаж - Хельфер Моника
Но в гости пришел и бургомистр, Готлиб. Он так сильно хлопнул Йозефа по плечу в знак приветствия, что Мария заметила в глазах мужа всплеск ярости, и она испугалась, что сейчас произойдет нечто такое, что она считала бы невозможным раньше, до того, как Йозеф ушел на войну. То, что он вспыльчив и может мгновенно разъяриться, она знала, но он никогда прежде не дрался. А вдруг он научился этому на войне. Но ничего такого не произошло. Итальянские войска хотя и понесли потери, говорил бургомистр, но по численности они, к сожалению, нас превосходят.
— Таково уж положение дел, ничего не попишешь, — сказал он.
Но больше этот вопрос не обсуждался.
Потом Мария видела из окна, как ее муж разговаривал с бургомистром на улице. Они говорят обо мне, сразу подумала она. Йозеф дал бургомистру какой-то сверток. Тоже, наверное, деньги, подумала Мария. На сей раз завернутые уже не в трусы. Ей было чем гордиться: ее муж даже на войне умел проворачивать какие-то делишки. Она вспомнила, как зять — муж сестры — однажды сказал ей: он, дескать удивляется, почему Йозеф не стал большим человеком. Сейчас Йозеф был одет в свой выходной костюм, она только сейчас обратила на это внимание. И засмеялась про себя: он надел свой выходной костюм в честь того, что их любовь посреди ночи и потом утром была хороша, как праздник. А теперь он осведомляется у бургомистра, была ли его жена ему верна. Допустим, бургомистр расскажет ему о госте из Ганновера и соврет, что встретил его в доме, да, в доме так рано утром, что поневоле спрашиваешь себя, уж не провел ли он здесь ночь. Допустим, бургомистр расскажет ему об этом — и что тогда? Йозеф, правда, явился с войны безоружным, но, может быть, в горах ему приходилось убивать итальянцев и голыми руками.
Бургомистр засунул сверток себе в карман, не взглянув на его содержимое. А Марии почудилось, что в свертке заключена вся ее стоимость. Ее цена. Столько следовало заплатить за то, что она была возвращена Йозефу в целости и сохранности. Ей было от этого и противно, и вместе с тем будило в ней чувство гордости.
Никто из семьи не хотел, чтобы отцу пришлось работать, ведь он приехал для того, чтобы отдохнуть. Но Йозеф делал все то же, что он обычно делал и до войны. Пошел в хлев. Похвалил Генриха. Маленький Вальтер вбежал в хлев вслед за ним, и отец посадил его верхом на лучшую корову. И все это в выходном костюме. Ей придется потом целый день этот костюм отчищать и три дня еще проветривать.
— А у вас на войне есть коровы? — спросил Вальтер.
— Лошади, — поправил Лоренц, и отец кивнул.
Еще раз пришел бургомистр, они вдвоем с Йозефом сели за стол поговорить. Насколько Мария поняла, речь шла о делишках. Может, и давеча во дворе у них тоже речь шла о делишках, а вовсе не о Марии. От бургомистра пахло шнапсом. Мария поставила им на стол угощение из приношений бургомистра. Молодое вино, сало, сыр. Потом она удалилась в спальню и принялась кроить и сметывать на живую нитку фланелевую рубашку. Которую Йозеф будет носить под жестким военным обмундированием. Она защитит его и от холода в горах. Ему это пойдет на пользу. И он будет вспоминать, как согревал свои ладони у нее между ног. Ведь он был ей в конце концов муж.
Тепло было только в кухне. Окна по утрам уже затягивались ледяными узорами, и, если нужно было выглянуть наружу, приходилось расцарапывать и отскребать иней.
Йозеф снова уехал на войну. Его вызвали уже через три дня. Обещали четыре дня, а дали только три. Шел снег. Мария смотрела ему вслед, когда он уходил вниз по дороге в деревню. Как будто маршировал прочь до самой Италии. На спине серый вещмешок, принадлежавший не ему, а кайзеру.
О том, что отец на войне отучился от ласки, мне рассказывала моя тетя Катэ. На людях он и раньше никогда не проявлял к детям нежности. А «на людях» начиналось, по его мнению, уже сразу за порогом. Хотя никто окрест не видит тебя и не слышит. Когда кто-то поднимался вверх по дороге из деревни, его было видно издалека еще за четверть часа до того, как ты сможешь услышать его голос или он сможет услышать твой оклик сверху. И тем не менее, как только отец выходил за дверь, прекращались всякие ласки, объятия и поцелуи, за дверью уже начиналось публичное пространство. Когда он пришел с войны, по рассказам тети Катэ, ласкам наступил конец и в доме. Она, Катарина, хотела обнять его и поцеловать, но он отстранился от нее и отодвинул от себя на расстояние вытянутых рук. Что было между мамой и папой в спальне, она, разумеется, не знала. Она сказала, что ей было обидно, когда отец не подпустил ее к себе. И между ней и отцом уже никогда не было так, как было до войны.
— Если все называть своими словами, ничего не смягчая, — сказала она, — то я потеряла своего папу на войне. Раньше я говорила ему «папа», а после войны уже называла только отцом.
— И что? — спросила я. — Что он на это сказал? На то, что он вдруг перестал быть папой, а стал отцом?
— Ах да, и правда, — припомнила она. — Я и забыла. Он действительно кое-что сказал на это. Теперь, когда ты спросила, я так и вижу его перед собой. И снова слышу, что он говорит. Как же все-таки интересно, что делается с нашей памятью.
— Так что же он сказал? — допытывалась я.
— Он сказал. Да, он сказал. Э, да ты теперь стала холодной личностью. Вот это и было самым странным. До войны он бы так никогда не выразился. В таком духе.
— Ты не холодная личность, тетя Катэ, — горячо вступилась я.
— Нет, холодная, холодная. Ледышка, — сказала она.
Когда моя тетя Катэ была уже далеко не юной женщиной, у нее появился ухажер, который ей, правда, не нравился, он происходил из рабочей семьи и хвастался тем, что уже в четырнадцать лет побил своего отца, загнав его под стол, а раньше все было наоборот. Кроме того, у него было гражданство Лихтенштейна. Для него это означало, что он может позволить себе что угодно. Моя тетя ненавидела насилие. Ухажер не ослаблял натиска, он грозился, что убьет ее, если она не выйдет за него замуж. Катэ поверила в это и стала его женой. Она подумала тогда: с моей-то внешностью кому я еще нужна, пойду за него. Муж из него получился безобидный, но только по отношению к ней, а со своими сыновьями он был строг и суров. О дочери не заботился. Когда один сын потерял в спортзале часы, он достал из кухонного сундука ремень и выпорол его чуть не до смерти. У этого сына был друг, с которым они играли в карты. Он мне очень нравился, потому что однажды сказал, что из меня стопроцентно выйдет что-то особенное. Я тоже хотела играть с ними в карты, и они разрешили мне, но предупредили: если я дам маху, то есть сделаю что-то неправильно, то мне придется сидеть под столом. Муж тети Катэ был кожа и кости. Он ничего не ел, только выпивал каждый вечер по десять стаканов пива. Он послал меня в табачный киоск купить «Тройку», это были сигареты без фильтра в бумажной пачке. Только смотри у меня, предупредил он, не тряси пачку, а то высыплется табак, тогда тебе будет. Я трясла, но мне ничего не было. Две мои сестры и я жили после смерти нашей матери у тети Катэ. Она взяла нас к себе в трехкомнатную квартиру в поселке бедняков в Южном Тироле. Тесноту пространства мы делили с ней, ее двумя детьми, ее мужем и двумя ее братьями — Вальтером и Зеппом — и одной из ее племянниц. Каждое утро она показывала нам у открытого — в том числе и суровой зимой — окна гимнастические упражнения, которые мы должны были повторять за ней. Я была очень ловкая, но похвалы не получала никогда. Она шила нам для школы нарукавники, чтоб не протирать на локтях платье; их я стягивала сразу за дверью и совала в портфель. Она старалась быть справедливой. Мы боялись ее вспыльчивого мужа, но он вообще не обращал на нас внимания. В начале каждого часа он слушал новости, и если в это время один из его сыновей произносил хоть слово, он кричал на него и бил его вилкой по пальцам. Тетя приютила у себя и двух своих братьев, которые разошлись со своими женами, Вальтера и Зеппа. Готовила она лучше всякого заправского повара. Меня она никак не могла понять и разгадать, по ее словам, и это было проблемой, а позднее стало проблемой и всей моей жизни. Моей младшей сестре было всего четыре года, и она писалась в постель, если среди ночи ее не разбудить и не повести в туалет. Но муж нашей тети запрещал нам ночью шастать по квартире. И мы с моей старшей сестрой сидели на краешке кровати и уговаривали малышку пописать в крынку, а у нее никак не получалось. Вечером тетя выставляла за дверь обувь всей семьи; я сидела там на коврике и чистила башмаки, мне это нравилось, потому что результат сразу был виден.