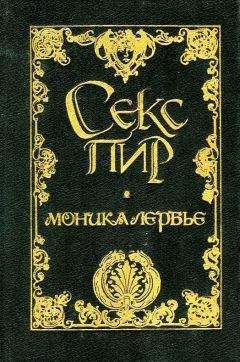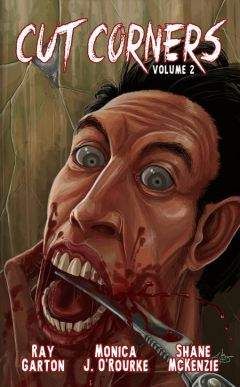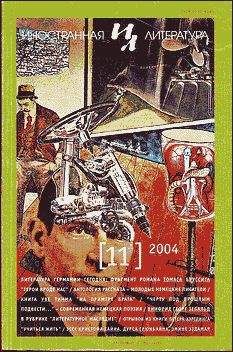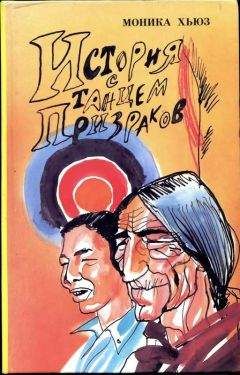Багаж - Хельфер Моника
— Я хочу только того же, что ты давала тому, из Ганновера, Мария. Больше ничего. Один разок, Мария! Только один!
Она вырвалась, убежала в спальню и подставила стул спинкой под ручку двери так, чтобы ручка не нажималась. Никаких ключей в доме «багажа» не водилось. Сперва он ломился, стучался. Потом отступил.
Когда дети вернулись из школы и все вместе пообедали, она отослала Катарину, Вальтера и Генриха наружу управляться по хозяйству и каждому задала работу — в хлеву, в сарае, с коровами, с козой. А Лоренца увела с собой в спальню и закрыла за собой дверь.
— Лоренц, — сказала она, — тебе придется за меня постоять. Этот пристает ко мне. Не спрашивай, чего ему от меня надо. Сам, небось, знаешь.
Кого она имела в виду, он тоже не спрашивал. Они сидели рядом на кровати, мать и сын. Лоренц громко пыхтел от ярости. Желваки играли у него на челюсти. Это было видно даже в слабом свете крохотного оконца. После паузы Мария сказала, что представляет дело так: когда он явится, все дети должны сидеть в кухне, пока он не уйдет, даже если он останется на всю ночь. Лоренц должен занять то место, на которое обычно садится бургомистр, и не вставать, даже если тот попросит его убраться.
— А когда мы в школе? — спросил Лоренц.
— А если ты какое-то время не походишь в школу? — спросила Мария.
— Это можно устроить, — сказал Лоренц. — Буду учиться дома.
— Я тебе помогу, — сказала Мария.
Когда вечером они опять все вместе сидели за столом — Генрих, Катарина, Лоренц и Вальтер, — она сказала:
— Сейчас Лоренц вам кое-что объяснит.
И Лоренц рассказал своим братьям и сестре то, что знал от матери, ничего не приукрашивая, ничего не преуменьшая, но и не преувеличивая.
Катарина сказала:
— Я пойду вниз и скажу его жене, она ко мне добра.
Лоренц сказал:
— Если ты это сделаешь, она больше не будет к тебе добра.
Генрих только вобрал голову в плечи. А Вальтер переводил взгляд с одного на другого и старался все запомнить. Собака и кошка сидели тут же, и казалось, что они тоже все понимают.
Во-первых: когда и где кончается «багаж»? Принадлежу ли я все еще к нему? А мои дети еще входят в его состав или уже нет? А мой муж? Во-вторых: а как у «багажа» обстояли дела со смехом, весельем и радостью?
В девушках до самой свадьбы моя бабушка была веселой и задорной, на танцах, что называется, ее могло перехлестнуть, но это случалось лишь пару раз. Правда, разговоры об этом ходили потом еще долго. Как в деревне, так и в семье. Она любила петь и неплохо умела, правда, ее сестра пела лучше. Но когда они запевали вдвоем, это всегда была радость. Они пели на два голоса. Иногда к ним присоединялась одна подруга, тогда они пели на три голоса. В такие минуты все на мгновение становились кроткими и смолкали перед этакой красотой. Муж сестры Марии был человек светский, так они говорили, он целый год прожил в Берлине и много чего мог рассказать об этом городе, известном на весь мир. Он играл на аккордеоне, и ему нравилось, когда сестры поют под его музыку, он со всей серьезностью говорил, что в Берлине у них были бы шансы. Он привез из города песню, она называлась «Крошка, ты свет очей моих».
А Йозеф? Когда он играл с детьми в кукольный театр и надевал игрушечные фигурки себе на пальцы — Петрушку на правую руку, крокодила на левую, — это было весело. Дети смеялись, Мария смеялась. Эти фигурки она сшила сама, и сшила хорошо. Она и рубашки шила, она и за деньги на заказ, случалось, шила. Йозеф менял свой голос, изображая то Петрушку, то злого крокодила, а потом становился простым папой, просто папой.
Чтоб я сама взахлеб смеялась — такое помню только со вторым моим мужем, я хохотала до слез, надрывала живот от смеха, когда он менял свой голос, подражая другим людям.
А мой дядя Лоренц? Он смеялся? Смеялся ли он по-хорошему? В моих воспоминаниях остались его тяжелые очки, они действительно были тяжелые, с толстыми стеклами, в коричневой оправе, я так думаю, это были очки, которые достались ему по больничной страховке бесплатно, или это была вещь, привезенная им из России, их точно можно было использовать как пресс-папье. Он был человеком, который всегда стоял в центре. В нем было что-то военное, при этом он посмеивался над любой униформой, даже над униформой почтальона. Когда он приезжал к нам, мой отец вставал, тяжело — из-за протеза на ноге — поднимался из своего кресла и приветствовал его:
— А вот уже и враг на пороге!
Я приносила им шахматную доску, расставляла фигуры, прятала у себя за спиной в одной руке белую пешку, в другой черную и давала тянуть жребий дяде Лоренцу. Белые начинают. Потом я заваривала чай и сервировала его. И подавала к нему сладости. Всегда. А они ни к чему не притрагивались. Никогда. Дядя Лоренц бросал в свою чашку несколько кусочков сахара, они даже не растворялись до конца. Он выпивал весь чай залпом. На донышке оставался сахар. Они играли два, три часа, говорили не так много, и потом дядя Лоренц прощался.
— Враг отступает! — кричал мой отец.
Оба очень хорошо относились друг к другу.
Я знала, что дядя Лоренц во время Второй войны в России дезертировал, примкнул к Красной армии, у него была русская жена и ребенок. Я всегда полагала, что все это должно было сказаться на нем; по нему должно быть все видно, эта склонность к приключениям; он должен был выглядеть смелым. Но нет. Он был таким, как и все мужчины тогда. О том, что он смотрит на людей свысока и большинство из них считает дураками, мне сказал отец. Но и в этом отношении они оба были заодно. От русской жены не осталось даже фото. От их общего ребенка тоже. Двое его здешних сыновей стали взломщиками, и один из них кончил жизнь в петле. Я очень хорошо помню этих близнецов. Они бывали у нас на летних каникулах, двое смышленых мальчишек, один крепкий, другой слабый. Оба так и бегали за мной хвостиком. Мой отец всегда говорил, что при других обстоятельствах Лоренц стал бы важным человеком. Оба интересовались преимущественно книгами и мыслями. Женщины им нравились, только если были умные и на одном уровне с ними. Моему отцу нравились женщины на голову ниже него.
Лоренц, мой сын — противоположность моему дяде. Он художник. Любит рисовать животных. Никогда бы не выстрелил в зверя. Однажды он ехал в метро с большой бадьей дисперсной краски, и бадья опрокинулась. Выплеснулось все. Он только пожал плечами. — пассажирам забрызгало одежду.
— Сразу же постирайте, — только и сказал он, больше ничего. И никто не возмущался.
Хотя он решительно не хотел быть таким, каким был мой дядя, мой дядя вел бы себя точно так же: даже не извинился бы.
— Кто извиняется, тот виноват, — такую поговорку мой дядя Лоренц часто повторял, иногда без всякой связи, иногда вместо «доброго утра» или «до свидания». В своей мастерской мой сын стоит перед холстом на коленях, как будто заклинает его. Или берет кисть, закрепляет ее на палке и ходит босиком по холсту, разостланному на полу. Он говорит:
— Лучше всего вообще ни о чем не думать, тогда что-то получится.
В детстве он никогда не болел. Когда я готовила еду, он играл в кухне, забившись в щель между кухонным шкафом и посудомойкой, строил башни из емкостей от лекарств. Мой дядя Лоренц тоже никогда не болел, всю свою жизнь.
Меньше всего я знала моего дядю Генриха. Если бы я сложила вместе все, что он мне когда-либо сказал, не набралось бы и на одну страницу. В детстве он очень любил лошадей. Когда ему уже перевалило за сорок, он смог себе позволить собственную лошадь. Он купил себе тяжеловоза норикера редкого окраса «в яблоках». Это была кобыла, он увидел ее на распродаже с аукциона и сразу же влюбился в нее. Очень крупное, широкое животное с лохматой шерстью над копытами. Однажды дядя Генрих мне ее показал. Я легко могла понять его любовь к этой лошади. Он выложил за нее большие деньги. Белую шерсть с черными яблоками он находил особенно красивой. Я тоже. Мальчиком и подростком Генрих был разумным и интересовался только сельским хозяйством. Его родители и братья с сестрами не возлагали на него больших надежд и ценили только его рабочую силу. Как будто он был трактор. На семейные встречи он не являлся. И о нем не говорили. Не потому, что за ним скрывалась какая-то тайна. А потому что не было никакой. К животным он был расположен больше, чем к людям. И так было всегда. Когда родители умерли, он вскоре уехал. Он был старший, девятнадцатилетний, родительский дом в конце долины продали с молотка, он нашел себе работу на фабрике. Там познакомился с женщиной. Она была еще неприметнее, чем он сам, и придавала ему уверенность, что он более ценный, чем она. Для него это было важно, но он не подавал виду. Да и вообще все это одни лишь предположения. Предположения, которые выдвигала моя тетя Катэ. У Генриха с его женой были дочь и сын. Все вкалывали и экономили, купили маленькое крестьянское хозяйство и обустроили его. Они были довольны, но изрядно уставали. Я о них мало что знаю. Собственно, вообще ничего. Одно лишь могу сказать: таким счастливым, как со своей лошадью, Генрих не был ни с кем — ни с женой, ни с детьми. Его дочь сделала хорошую карьеру в качестве переводчицы и жила в Париже, как я слышала. Но не успела кобыла дяди Генриха простоять у него в хлеву и двух недель, как наступила ему на босую ногу, и травма была тяжелой. Ступня воспалилась и почернела. Его добрая жена делала ему повязки, примочки с травами и смогла спасти ногу. К врачу он не ходил. Но после этого несчастного случая разлюбил свою лошадь-тяжеловоза. За норикером теперь присматривала жена, а Генрих — когда видел это животное пасущимся на лугу — закрывал глаза и надеялся, что лошадь это заметит и ей станет совестно. Его ступня так и осталась изувеченной и в некоторых работах ограничивала его. Поэтому почти все делала его жена. Генрих хотел воспитать своего сына так, чтобы тот помогал матери, но это не дало особых результатов, сын уставал уже с самого утра. Однажды приехала из Парижа в отпуск его дочь и привезла с собой своего сына. Она была шикарно одета, и чемодан у нее был из дорогой кожи. А сынок был хорошенький и чернокудрый. Генрих привязался к мальчику и упросил дочь оставить его; обещал о нем позаботиться, что и сделал. Сам учился вместе с ним и не сомневался, что из парня выйдет толк. Мальчик обучил деда французскому языку, и скоро они разговаривали между собой уже только по-французски. Однажды Генрих сказал своему любимцу, что тот может просить чего только пожелает сколько бы это ни стоило — денег, мол, у деда скоплено достаточно. И тогда мальчик сказал, что хочет норикера себе в собственность.