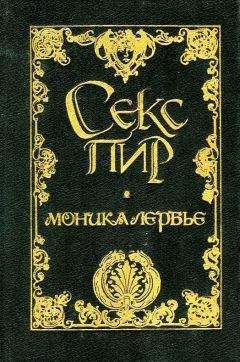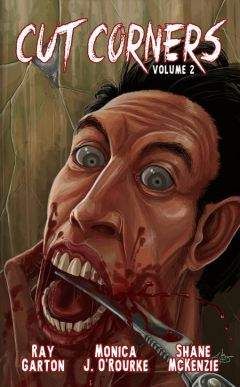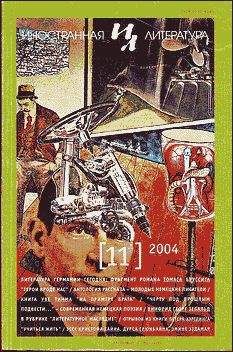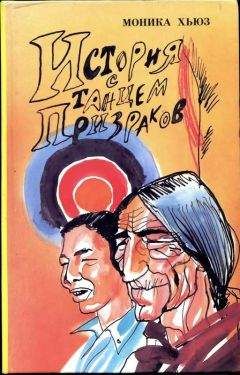Багаж - Хельфер Моника
Но он не был на поле битвы. То было не поле, а горы. Его битвы происходили в горах. Там они рыли себе пещеры, в Италии. Они жили в горах как в домах. Там они оборудовали себе столы, лавки, нары. Занавески — на случай, если кто-то хотел побыть один, сам с собой. Мог их задернуть. И все равно эти пещеры были как разверстые пасти глубоких закопченных каминов. И постоянно царил шум. И всякие гадости в разговорах, которые действовали ему на нервы, Йозеф никогда в них не участвовал, никогда их не вел, и дома тоже.
Он заработал денег, в поле, в горах. Чем и как, он не сказал. Он выложил перед Марией на кухонный стол пачку банкнот. Деньги были завернуты в трусы.
Он истосковался по горячей воде и по мылу, только после этого, мол, он ляжет к своей жене. Мария расстелила на кухонный пол полотенце, и он на него встал. Сперва он растерся с горячей водой, Мария потерла ему спину, потом он остриг себе ногти на ногах и на руках и отшлифовал их пилкой, потом побрился, намылился второй раз и снова побрился. Волосы у него были свежеподстрижены, специально для отпуска, ну, хотя бы это функционировало на войне. Это и еще кое-какие вещи. Йозеф неожиданно разговорился. Но лишь ненадолго. Как будто кран с водой открыли, а потом снова закрутили. Он накинул полотенце себе на плечи и голый и босой пошел вниз к источнику и уселся там в бетонную ванну. На день Всех Святых, 1 ноября, выпал снег и на некоторых местах еще остался лежать. Но холод всегда был ему нипочем.
В кровати, под боком у жены, Йозефу тяжело давалось не думать о тех двух мужчинах из деревни, убитых на войне, он только сейчас от Марии узнал об их гибели, а также о двух следующих. Он и остальные деревенские тогда попали в разные части, кто куда, их разлучили уже на следующий день после того, как они вышли из деревни. Их шляпы пережили их головы. Значит, уже четверых деревенских не было на свете.
И тело его оставалось холодным. Как будто в нем до самой серединки не было ничего теплого, как будто даже в сердце его кровь оставалась холодной. Он остался жив, и за это его мучила совесть. Он сказал об этом. А больше не сказал о войне ничего.
— При чем здесь ты? — спросила она.
— Будь на то моя воля, войны бы не было, — сказал он. — Но вся деревня, я знаю, считает меня виноватым в том, что я живой.
— С чего ты взял? — спросила она. — Мне бы и в голову никогда не пришло так думать.
— Мы на фронте это обсуждали, — ответил он. И потом добавил: — Еще посмотрим, выживу ли я. Ты права. Мне нечего стыдиться, пока не подвели черту под счетом.
На это ей нечего было сказать.
— А почему ты говоришь «на фронте», а не «на войне»? — спросила она, сама не зная зачем. На самом деле она и сама не видела никакой разницы.
— Ну, так они там наверху придумали, — сказал он. — Еще говорят «пал в бою», как будто гибель от пули означает, что человек просто шел и упал. Что-то я не видел, чтобы человек шел себе и ни с того ни с сего упал.
Он мог бы много рассказать о том, как погибают на войне. Там и речи не было о простом падении. И кто только додумался до такой глупости! Это опять же походило на то, будто открыли кран с водой. Вот только что человек стоял, а потом упал. Глупость какая. Когда идет стрельба, ты в основном лежишь, и если в кого попадает пуля, тот так и остается лежать. И вот кран с водой уже снова завернули. Мария не привыкла к таким речевым залпам у мужа. И это ее встревожило. Для нее это было верным признаком того, что он стал другим. Она боялась, как бы в нем не возникло и других перемен.
Она думала, будто это его чувство вины повинно в том, что его тело остается таким холодным. Она прижималась к нему, растирала его спину, облегала его сзади всеми своими изгибами.
— Я никак не могу тебя согреть, — сказала она.
— А я не мерзну, — ответил он.
Если хоть раз видел своими глазами это безумие. Если хоть раз видел лазарет. А ведь каждому хотелось в лазарет. Всем почему-то казалось: там стоят кровати, застеленные свежим бельем. И там есть ванна для мытья. Ванна для мытья! И душистое мыло. Душистое мыло! Но стоило кому-то попасть туда хоть раз, как он предпочитал вернуться обратно на фронт. По сравнению с лазаретом куда уютнее было в их пещерах, пронизанных сквозняками. Стоило только раз понюхать вонь лазарета. Стоило только раз увидеть там руки и ноги. Которые лежали там повсюду. Как будто их кто-то забыл. Они просто валялись кругом. И многие другие вещи валялись.
— Что там валялось повсюду? — спросила она.
— Тебе лучше не знать, — сказал он.
— Тогда давай лучше не будем говорить об этом, — предложила она.
— Да, лучше не будем, — согласился он.
Они молчали. Как будто больше не находилось ничего другого, о чем можно было бы поговорить. Он даже ни разу не спросил про детей. И если хорошенько подумать, он ведь на них даже не взглянул ни разу.
Она сказала:
— У детей все хорошо.
Как будто он спросил об этом.
— Да, — ответил он.
Лоренц подал ему руку, словно постороннему человеку. Генрих сделал все так же, как Лоренц. Только Вальтер и Катарина бросились к отцу и обняли его. Катарина хотела немедленно сыграть с ним в веревочку. Она нанизала на пальцы бечевку, связанную в кольцо, и предложила ему отнять шнурок, не стаскивая его с пальцев. Мария подсказала ему, за какое место нужно потянуть, чтобы веревочка выскользнула наружу, и он сделал это. Еще даже не успев снять с плеч вещмешок и не войдя в комнату.
— Отрезанные части тел, — сказал он.
— Лучше не надо об этом, — попросила она.
Но он продолжал говорить, а сам все еще был холодный, только постепенно согревались ладони, которые он всунул ей между ног, поглаживая волосы у нее на лобке.
— А раненые… однажды вечером они затянули хором песню… только представь себе… у каждого чего-то не хватало… у кого-то половины челюсти… но он еще мог петь…
И даже тому хотелось снова на фронт.
— А ты-то как очутился в том лазарете, какими судьбами? — удивилась она. — Ведь ты же не был ранен, ведь нет?
Он сказал, что из-за температуры. Она поднялась из-за воспаленного зуба, который у него еще до войны болел. А на фронте все воспаляется быстрее. Бывает, люди и от царапины умирают. Причем скоропостижно. Если ничего не предпринять, умрешь быстрее, чем думаешь. Вот был бы стыд и позор — умереть на войне от зубной боли. Вся деревня бы над ним смеялась.
— Зуб тебе вырвали? — спросила она.
— Да, — сказал он. — Завтра покажу.
— Что, прямо передний?
— Нет, который дальше, в глубине.
— А они это умеют, в лазарете-то?
— Еще как умеют, — сказал он.
Там вообще, дескать, самые лучшие врачи. Там, где он, всегда все самое лучшее. Лучшие солдаты, лучшие парикмахеры, лучшие зубодеры. Он был в войсках горной пехоты. Самое элитное, дескать, подразделение. Лучшего просто не бывает. Это и сам кайзер говорит.
— О нас еще долго будут ходить легенды, — заверил он.
Потом он заснул. На полуслове. Мария тоже вскоре заснула. Среди ночи они проснулись оба одновременно. И между ними опять все было так, как будто не было никакой войны. И как будто не было никакого человека из Ганновера. Мария сказала, что так хорошо ей еще никогда не было. Он сказал, что ему тоже. Уром они переспали еще раз.
— Надолго ты можешь остаться? — спросила Мария.
Он сказал:
— Мне дали четыре дня. Может, даже раньше отзовут. — И потом добавил: — Странно, что ты только сейчас об этом спрашиваешь.
— Странно, что ты только сейчас об этом говоришь, — возразила она.
Они сошлись на том, что просто соскучились друг по другу так, что совсем забыли про войну, на которую ему еще придется возвращаться. Но на самом деле это было не так — и у нее, и у него.
Когда он смеялся, была видна сбоку дыра между зубами. Но это выглядело лихо и задорно. Ей даже нравилось. Война сделала ее Йозефа еще привлекательнее. Вот представь себе!