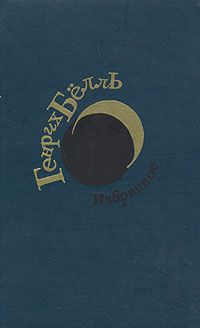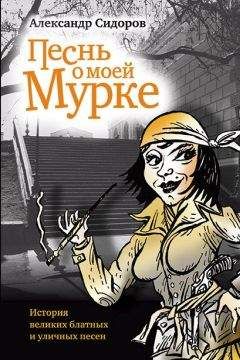Николай Веревочкин - Место сбора при землетрясении
Но есть в меру обычные типы, которые любой ценой хотят быть не похожими на других, без особых на то оснований претендуя на исключение из правил. Они получаются из милых крошек, которых папы и мамы подсаживали на табуреты, чтобы чада изумили гостей своими невероятными способностями. И когда ребенок, забавно картавя, читает стишок собственного изготовления, родители смотрят на него с обожанием и умилением. Сопереживая успех, они морщат лбы и кивают головами в такт, беззвучно повторяя слова. При этом рты у них приоткрыты. Подхватив в младенчестве вирус вселенской славы, эти ребята до самой старости таскают за собой табуреты.
Сева был одним из таких несчастных существ, в равной степени достойных презрения и жалости.
Он был глуп, тщеславен и добродушен. Судорога заискивающей улыбки постоянно уродовала его востренькое личико. Он мучительно переживал собственную бездарность. Но ему первым из горожан посчастливилось подхватить ВИЧ-инфекцию. Это возвысило его в собственных глазах, породило чудовищное самомнение. Сева впервые посмотрел на мир свысока и возгордился.
Он наконец-то чем-то отличался от толпы.
Стал избранным.
Сева обходил знакомых, заразительно смеялся, брызгая слюной, и каждому совал ледяную, вялую, очень влажную ладонь. Иных он пытался облобызать.
Увидев Севу, Уездный спрятался за Дрему, прошептав: «И этот спидоносец здесь».
Но Сева, как оказалось, не случайно оказался среди публики. Он был специально приглашен Иркой как представитель меньшинства.
Уездный успокоился: первой шла Иркина пьеса. На помост вышли три актера. Один из них поставил стремянку и сел на нее верхом. Получился жираф. Двое других разместились по сторонам стремянки на табуретах.
Как только прозвучали первые фразы, Уездный перестал трястись, и лицо его приняло осмысленное и чуть презрительное выражение.
Пьесу не играли, а читали.
Тот, что сидел на стремянке, читал ремарки.
В Иркиной пьесе рассказывалось о невероятных гонениях на двух юных геев, которые вынуждены были покинуть тупоголовых родителей. Уединившись на старой даче, они предавались неистовой любви.
Это очень удачно, что пьесу не играли, а читали.
Пьеса, однако, была настолько скучна, что даже не шокировала.
Так, статья в провинциальной газете, которую монотонно бубнили в три голоса.
Сева столбом торчал посреди возлежащих на подушках. Он неистово хлопал после каждой реплики.
Оживление в публике вызвало появление на сцене отрицательного персонажа в майке с гордой надписью: «С пидорами не пью!» В левой руке он держал текст. В правой — увесистый дрын, которым намеревался погубить несчастных героев. И когда этот дремучий человек, вахлак и деревенщина, прочитав наскоро текст, изобличающий его в нетерпимости, погнался, размахивая дрыном, за изящными геями, зал, предчувствуя финал, встретил его действия гулом одобрения и советами.
Пьеса завершилась гибелью одного из геев, призванной вызвать возмущение публики перед нетерпимостью общества.
На сцену выпорхнула Ирка. Хрупкая и глазастая, она напоминала иранского скворца, севшего на клетку, набитую шакалами. С презрением разглядывая публику, она долго кланялась вежливым, но жидким аплодисментам.
Скамейка под Уездным снова завибрировала. В волнении он чесал лысину и смахивал с костюма воображаемые пылинки.
— Ужас, — сказал он, — полный деграданс.
— Тебе не понравилась пьеса? — не поверил ему Дрема.
Чувство юмора окончательно покинуло взволнованного ожиданием провала Уездного.
— Мне не нравится, когда, пытаясь шокировать зрителей, пропагандируют мерзость. Особенно если делают это бездарно, — ответил он.
— Отсталый ты человек, Уездный, — укорил его Дрема. — Я давно подозревал тебя в антидемократических настроениях.
Но Уездный не намерен был шутить.
— По-твоему все демократы обязаны быть педерастами? — спросил он.
Дрема махнул на него рукой и сосредоточил внимание на сцене.
— Ничего хорошего от этой премьеры я не жду, — гудел ему в ухо Уездный, судорожно сжимая трясущиеся коленки. — Это будет провал похлеще, чем у этой пигалицы. Пойдем отсюда. Пьесу надо смотреть, а не слушать. В самом деле, что это за театр? Какие-то семейные чтения.
Он оказался не прав.
Его пьесу не читали, а играли.
На сцене не было ничего, кроме резиновой лодки. По ходу пьесы она превращалась то в стол, то в гроб, то в дверь, то в маятник громадных часов, то снова в лодку.
Скамейка под Уездным перестала дребезжать. Что чувствует автор на первом просмотре своей пьесы? Узнает ли он ее? Он чувствует то же, что и ребенок на качелях, перелетая из пропасти в пропасть, — восторг и страх, сладкое замирание души. Тайные слезы, отчаянное веселье, жар и холод, досаду и потрясение. Он чувствует то же, что и муж, видя свою жену в объятиях чужого мужчины. Актеры, между тем, играли весело, дерзко, на грани стеба. Особенно в местах трагических. Они вдохновенно импровизировали, то есть несли отсебятину, и не признавали полового разделения. Девушки играли мужчин, парни — девушек. Если встречался сложный текст, они заменяли его на универсальное: бла-бла-бла… Автор бледнел, краснел, пучил глаза и шептал нечто, что дозволяется только шептать.
Блистательная игра актеров неформального театра заставляла думать, что бунт против Станиславского помог им осознать, насколько гениальна его система. Это было тайное оружие блудных сынов. И действовало оно безотказно. Зрители смеялись в нужных местах и в нужных местах шмыгали носами. А когда актеры держали паузу, тишина звенела. Овация по завершении пьесы вернула Уездного к жизни.
Нужно было идти к пожарным ведрам и бросать в них белые и черные комки бумаги.
Ведро Уездного оборвалось. Звук удара о бетонный пол был неожидан и свеж, как раскат грома.
Это был знак.
Плохой, хороший?
Зрители бросились подбирать раскатившиеся из ведра бумажки. При этом Дрема заметил, что некоторые из них так же, как он, белые бумажки кидают в ведро, а черные, чтобы не огорчить автора, прячут в рукава и карманы. Некоторые же по второму разу досыпают белые бумажки.
Потом всех авторов, а было их девять человек, пригласили на сцену. И Дрема видел, как, блестя потной лысиной, согнувшись кочергой, Уездный целовал Иркину руку и что-то при этом говорил ей в полном восхищении. Ирка занимала центральное место на помосте и держалась снежной королевой, снисходительно принимая комплименты.
Театр.
Как его не любить.
Зазвонил телефон.
— Привет. Ты где?
— Еду домой, — ответил он.
— Хорошо. Я пришла, а тебя нет. Стол накрыла. А тебя нет и нет, нет и нет. Я уже вино попробовала.
— По какому поводу праздник? — сухо прервал он ее.
— Ну, — на долю секунды смешалась Гулька, однако быстро нашлась, — поводов много. Для меня каждый день — праздник. Щенков в хорошие руки отдала — праздник. А самое главное — забыл? — день рождения Олигарха. Что ты! Красный день календаря. Сидим вдвоем. Празднуем. Он мне тосты мурлычет. Приезжай скорее, ждем.
— Жди, жди, — холодно сказал он и захлопнул крышку телефона.
Тоже мне заговорщица. День рождения Олигарха она празднует.
Звонок лишь на короткое время вернул его из прошлого, полного презрительного фырканья Ирки. Этим фырканьем она показывала, как конфузится за него перед незнакомым человеком. Ей было важно, чтобы чужой человек знал, как ей неловко.
Он был старше. И оправдывал это фырканье ее молодостью. Это у нее от низкой самооценки, думал он. Ей кажется, что ее мужем не мог стать достойный человек. Ничего. Пройдет. Он заставит ее уважать себя.
Но было обидно.
Такая разговорчивая на своих сборищах, дома она замыкалась. На его попытки разговорить ее отвечала фырканьем или презрительной усмешкой.
Чтобы тебя уважали, нужно чего-то достичь. А чтобы чего-то достичь, нужно жить для себя. В этом было непреодолимое противоречие. Жизнь для себя исключает внимание к другим. Да и не такое уж это удовольствие — жить для себя.
Какое-то время их сближала лишь постель.
Потом она все чаще стала отворачиваться от него, а когда он касался ее, с отвращением отбрасывала руку.
Наверное, уже тогда Уездный был ее любовником.
Дрема же объяснял внезапное отчуждение возможной беременностью.
Очень редко она позволяла любить себя. Именно позволяла. Преодолевая отвращение, и не скрывая этого отвращения.
Верх унижения.
Ничего более омерзительного ни до, ни после Дрема не испытывал.
Он был на грани нервного срыва.
Были моменты, когда, не сдержавшись, он мог убить ее пощечиной. Ее раздражала даже его сдержанность. Она провоцировала его. Долго смотрит, прищурившись, а потом, усмехнувшись, скажет: «Рогоносец». Кровь, как бензин, вспыхивала в его венах.