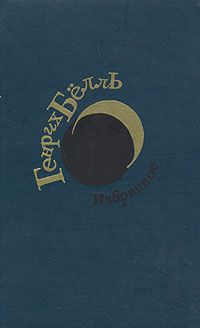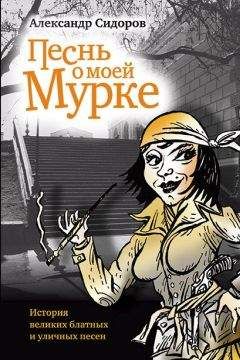Николай Веревочкин - Место сбора при землетрясении
— Да пошел ты!
Сгреб Дрема улики и навсегда вышел вон.
* * *Просматривая вечером почту, он наткнулся на странное сообщение: «Vstrechay. Priletayu 21.02. Reisom iz Stambula». И подпись «J».
Кто такой этот «J»?
Кто бы он ни был, но сегодня именно 21 февраля. Дрема позвонил в аэропорт. Самолет прилетал по расписанию.
Знаешь, не знаешь, розыгрыш, не розыгрыш, а встречать надо.
Там разберемся. Во всяком случае, этот «J» знает его электронный адрес.
Строящееся здание аэропорта вспыхивало в бездонной ночи нервными сварочными огнями. Как остывающая в пепле головешка на влажном, порывистом ветру.
Во временном терминале было тесно и душно.
Встречающие толпились под открытым небом, наполненным звездами и космическим гулом взлетающих самолетов.
В каждом аэропорту присутствует дух Сент-Экзюпери. Конечно, для тех, кто о нем знает.
Дрема смотрел в небо и представлял соринку, летящую в эти минуты над черной планетой. И в этой соринке сидело неизвестное ему существо, инопланетянин. Существо смотрело в иллюминатор на темную Землю, слившуюся с космосом, и думало о нем, Дреме, — другой бесконечно малой соринке, которая ждет его в непроглядном мраке. На другой планете.
У ограждений под фонарями светолюбивыми мотыльками толпились скучные, тщательно причесанные и отглаженные представители фирм с табличками в руках.
Чужие люди, встречающие чужих людей по служебной обязанности.
Узнает ли его таинственный J?
Может быть, тоже сделать табличку? А что он напишет на ней? J? Вот этот J оскорбится.
До прилета было еще полтора часа. Ждать наскучило. Дрема смотрел на строящуюся громаду нового терминала, вслушивался в колокольные звуки соударяющегося металла, шорох осыпающихся искр, церковные голоса рабочих и вспоминал старый, на удивление вовремя сгоревший аэропорт. Шумный, суматошный. С толчеей восточного базара. Без людей с табличками и безразличными лицами. Встречаясь, там обнимались и смеялись, а, провожая, обнимались и плакали. Транзитные пассажиры спали на скамейках. Сонные, но бдительные милиционеры время от времени будили их: «Гражданин, вы свой рейс не проспали?» Тогда летали многие и много. А где-нибудь под лестницей обязательно сидели на рюкзаках ребята и пели под гитару.
Дрема украдкой приглядывался к бледным лицам людей с табличками.
Неужели и он стал одним из этих роботоподобных существ, обитающих на маленькой планете на задворках провинциальной галактики? Существо, у которого нет даже таблички. А в душе пусто. Ему все равно, кто прилетит. Он никого не ждет. Втайне он надеется, что все это розыгрыш. Никто не прилетит. Он, конечно, испытает минутную досаду, как и каждый, кого разыграли. И вернется в уютную квартиру, к коту Олигарху.
Почти физически, как паутину на лице, Дрема чувствовал скуку своего захолустного космоса. Скуку и одиночество города, лежащего между холодными горами и безлюдной пустыней. На узкой полоске земли, за которую зацепилась случайная жизнь.
Когда же в толпе пассажиров, прилетевших из Стамбула, мелькнуло ее лицо, он испытал чувство, похожее на то, когда впервые увидел растекшиеся глазуньей часы Дали.
— Ты не рад?
Она жалко улыбнулась, тотчас же прикрыв тонкими пальцами рот.
Стеснялась плохих зубов.
Ногти неухоженные. Желтые от никотина.
У него, конечно, не было причин для особой радости.
Удивление, старая обида, презрение, недоверие — все что угодно, только не радость. Но больше всего — жалость.
Она уезжала хрупкой, надменной и задиристой девчонкой. В общем-то избалованным и наивным ребенком. Сейчас перед ним стояла просто очень худая и очень маленькая женщина с нездоровым цветом лица, некрасиво выпирающимися коленками и лихорадочным блеском глаз смертельно уставшего сумеречного существа. В этих глазах уже не было вызова, а было лишь смущение и отчаяние.
В ней всегда была тайна.
Она многозначительно говорила отрывистыми, полными намеков, фразами, многозначительно молчала. Многозначительными были каждое ее движение, жест, взгляд. Правда, за все время, что он ее знал, она так и не обнаружила, что скрывается за этой многозначительностью.
И вот она стоит перед ним. Истощенная. Неряшливо причесанная, не скрывающая первую седину. Одетая в какую-то легкомысленную шубейку детского размера.
Инопланетянка, в которой нет ни тайны, ни загадки.
Уставшая, смирившаяся, очень маленькая женщина.
Держит за руку сонного мальчишку в шапке «а-ля рус».
— Твой? — спрашивает он.
Она поспешно кивает головой и смотрит на сына. Сама как состарившийся ребенок.
— Говорит по-русски?
— Питер, поздоровайся.
Смуглый Питер спит на ногах. Ему не до хороших манер.
— Ты не против, если я остановлюсь у тебя, — спрашивает она и поспешно добавляет: — Мне негде остановиться.
Почему негде? Она бы могла остановиться у своей подруги Светки.
Дрема нахмурился. Его электронный адрес она могла узнать только у Светки.
Но почему «J»? Может быть, перепутала с «I», случайно нажала не ту клавишу?
И внезапно жалость, жалость, которую человек может испытать, только увидев брошенного, шелудивого щенка, беззаботно играющего на дороге с клочком газеты, заставила его поспешно откашляться.
Это же ее поэтический псевдоним. Так она подписала свой первый и, вероятно, последний стишок, напечатанный в журнале. Журнал авангардистского толка назывался «Пробивая стену». Издавался тиражом в сто пятьдесят экземпляров. Вышло, кажется, два или три номера. Бедная, бедная Ирка, живущая на пепелище своей короткой юности. Ведь она уверена, что он помнит и ее псевдоним, и тот стишок без рифм, знаков препинания и смысла. Стишок, который невозможно запомнить. Неужели она все еще живет детскими грезами?
Все, что осталось от прежней Ирки, надменной задиры, убежденной в своем блестящем будущем, — огромные глаза сумеречного существа, в которых давно погас восторг ожидания. В них поселился испуг.
Он никак не мог загасить в себе эту жалость к существу, которое сделало ему столько зла. Ну да. Ведь она была глупой, злой девчонкой. Да и ему было не так много лет. Глупая, вздорная юность была всему виной. Ирка была как луковица тропического цветка. Неизвестно, что вырастет. Но непременно — что-то яркое. Значительное. Необыкновенное. Она не только писала авангардистские стишки и прозу в духе абсурда. Пробовала себя в живописи. Придумала стиль дождевого червя. Сыграла роль навязчивой идеи главного героя. Как же называлась эта пьеса? Бесподобная чепуха. Написала критическую статью. Крайне снобистскую и оскорбительную. Ее неловко было читать. Ничего, кроме ущемленного самолюбия, она в ней не обнаружила.
Вспыхнула, как спичка, и сразу согнулась, обуглившись.
Из луковицы не выросло ничего.
Может быть, в этом и была причина ее отвратительного характера.
Перед ним стояло нечто до того жалкое и убогое, что сердиться на это не имело никакого смысла.
— Надолго? — спросил он.
— Как получится, — тихо ответила она.
Дрема, нахохлившись, сидел на переднем сиденье такси. Теперь он не видел ее и не мог сдержать нарастающую досаду. Его раздражало даже молчание на заднем сиденье.
Сколько крови попил у него этот маленький вампир.
И вот сидит — робкая, тихая. Придерживает спящего пацана и смотрит в окно, как в напрасно прожитое прошлое.
Негде ей остановиться. Отвезти разве что в гостиницу? Заплатить за номер?
Когда он увидел впервые этот степной чертополох с прекрасными, огромными очами? На литературной тусовке в «Книгомании». «Место сбора при землетрясении» — надпись на дверях подвала, где собирались молодые литераторы и художники поиграть в андеграунд. В литературное подполье. Никто никого давно не преследовал за инакомыслие. И это было обидно. Хотелось не просто землетрясения. Хотелось быть причиной землетрясения. Приятно было думать, что вот сидят они, никому не известные гении, и никто не знает, что вскоре сейсмические волны из этого погреба потрясут всю планету. Эти пацаны и девчонки с прекрасными и злыми глазами потрясателей основ полагали, что родились открыть миру глаза. На что? Какая разница. Но люди вне подвала не просто не признавали их. Они их знать не хотели. И только поэтому заслуживали презрения. Кто они были? Наивная детвора. Еще ничего не совершив, не написав, ребята жаждали признания. В этот подвал они и собирались лишь для того, чтобы насладиться крохами этого признания. Дрема был не намного старше их. Но и с расстояния в несколько лет было видно, какое большое разочарование ждет этих мальчишек и девчонок в ближайшем будущем.
Центром внимания в тот вечер был дизайнер Жора — специалист по навязыванию собственного вкуса тупому обществу. В высшей степени креативная личность. Кстати на этой тусовке Дрема понял различие между творчеством и креативом. В творчестве главное — самобытное развитие и на этой основе открытие нового, того, что до тебя не было. Креативность — способность подхватить последнее веяние, как СПИД. Быть на шаг впереди толпы и первому на нетоптаной поляне собирать бабки. Зеленые волосы. Пирсинг. Джинсовый, искусно забрызганный краской, комбинезон. Косоворотка. На левой ноге — плетенка. На правой — кроссовка. Жора был ярким представителем провинциальных дизайнеров, продвигавших агрессивный стиль «из вторых рук». Дрема не мог оторвать глаз от этого забавного существа — клоуна и попугая с надменной печатью гения на лице. Невозможно не восхититься. Пацан посетил место сбора при землетрясении с единственной целью — дать другим редкий шанс полюбоваться собой.