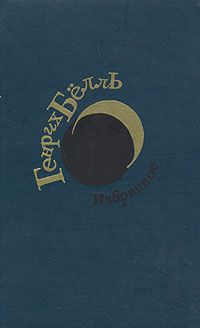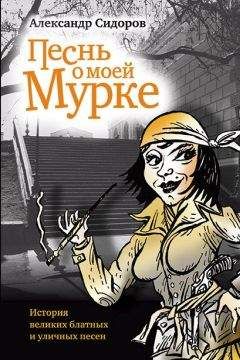Николай Веревочкин - Место сбора при землетрясении
— Разошлась я со Змеем Горынычем. Фамилию на память оставила.
— Ах, ты моя красавица…
— Отлипни, папка, а? Дай с дядей Гошей поговорить.
— Подождет дядя Гоша, наговоришься еще. Идем ко мне. Я из тебя шедевр сделаю.
— Сделал ты уже из меня шедевр. Снимать будешь анфас. В профиль нос из книги торчать будет. Думаю, дядя Гоша, пластическую операцию сделать, — она прикрыла нос — не такой уж и большой — рукой, унизанной перстнями. — А?
— Не выдумывай, кокетка, — отвечал Кукушечкин, провожая ее томным взглядом.
— Дочь Марка Борисовича? — спросил Дрема, когда закрылась дверь запретной комнаты.
— Красивые ноги в женщине все, — рассеянно отвечал Кукушечкин. — Красивые ноги — красивая походка. Гордый стан. Роскошная женщина. Как она тебе?
— Как «Черный квадрат» Малевича, — отвечал Дрема. — Потрясает, притягивает, а чем — не поймешь.
— Дочь, дочь. От первого брака. Не вздумай Марка о ней расспрашивать, — сказал Кукушечкин, по лошадиному кивнув головой, будто отгоняя назойливого овода.
Отчего-то жалко Дреме стало Сундукевича. Весь такой аристократичный. А коленки трещат. И пальцами постоянно хрустит. Весь трескучий, как сухой плетень. Наверное, красивым людям особенно неприятно стареть.
* * *С Дремой происходило нечто ужасное. Он стремительно терял чувство юмора. Становился раздражительным, обидчивым и мнительным. Дошло до того, что однажды в гневе пнул самого Олигарха. Жизнь его потеряла всякое удовольствие и неотвратимо превращалась в ад. С тех пор как Дрема связался с Кукушечкиным и Сундукевичем, его карикатуры не только перестали быть смешными, но и утратили всякое остроумие.
Раньше он никогда не задумывался, как приходят темы рисунков. Вдруг его распирало неудержимое веселье, сама собой возникала искра — и мотор начинал работать. Карикатура появлялась как нарисованный анекдот. Спонтанно.
Сейчас же он долго морщил лоб, тупо смотрел в потолок, ходил по комнате, как белый медведь, сошедший с ума от жары, в тесной клетке. Выкручивал мозги половой тряпкой. Но вымучивал такое убожество, что всякий раз краснел, рассматривая собственные рисунки в газете.
Раньше его карикатуры лучились юмором, а главное были многослойны, как чемодан контрабандиста. Отличались от прочих скрытым смыслом. И часто подтрунивали над содержанием статей, которые призваны были всего лишь иллюстрировать. Над его карикатурами можно было не только смеяться, но и думать. Его поклонники — вольнодумцы и диссиденты — встречая его, подмигивали и показывали большой палец. И вдруг это легкое, веселое дело превратилось в подневольный труд. Туриста-байдарочника приковали к галере.
— Послушай, Леня, как к тебе в голову приходят темы? — спросил он однажды, не выдержав муки, Сербича.
— Не придуривайся, — пророкотал великий карикатурист, не отрывая глаз от рисунка.
— Я серьезно.
— Вот когда буду знать, брошу этим заниматься, — отвечал тот, — буду книгу писать.
— А я больше не чувствую удовольствия, — пожаловался Дрема.
— Я тебя предупреждал: не связывайся с женщинами, не совершай самоубийства. Карикатура и женщины — понятие несовместимое, — посочувствовал ему Сербич.
Но в голосе его не было жалости.
— Ты знаешь, Леня, недавно я внимательно присмотрелся к себе. Ты даже не поверишь, как мало в себе я обнаружил себя. Чужие мысли, чужие книги, чужие взгляды. Все чужое, наносное, как в норе у суслика. С мира по зернышку.
— Мало, говоришь? Тебе повезло — хоть что-то обнаружил. В других своего вообще ничего нет. Однако живут и многие процветают. Это не редкость. Это правило.
Он вспомнил этот разговор, набрасывая шарж с очередной тыквы.
Это была одна из тех румяных, дебелых и привлекательно вульгарных особ, что в советское время, смущая пышными формами горячих уроженцев Кавказа, восседали за кассами в кафе. Таких фарфоровых женщин обожал Ренуар.
Милая, всегда готовая сладко зевнуть от перманентной скуки, особа. Белая негритянка.
— Вот я и думаю, Гоша, пароход купить или фабрику. Куда посоветуешь вложить деньги?
— Купи, Тома, нашу газету, — посоветовал Кукушечкин, криво усмехнувшись.
— Я бы купила. Смысла не вижу. Кому нужна ваша газета, — отвечала ренуаровская дама добродушно, без всякого подтекста и злорадства.
— Послушай, Тома, а зачем ты хочешь попасть в эту книгу? — спросил Кукушечкин. — Зачем тебе это нужно?
— А мне это не нужно. Сашенька попросила. Коммерческий проект. Сашеньке нужны деньги на выборы. Надо выручать подругу.
— И много заплатила?
— Как будто не знаешь.
— Не знаю.
— Ну и знать не надо.
— И все платят?
— А зачем мне это знать? Спроси у Сашеньки. Думаю, первая леди, олимпийская чемпионка, музыкантши, чиновницы — бесплатно. А у остальных дам — какие заслуги? Остальные за деньги.
— Бизнес на тщеславии, — кивнул головой Кукушечкин, — хорошо задумано. Ты, кстати, не надумала мемуары писать? Надумаешь, вспомни о старом друге.
— Да уж, что старый то старый, — согласилась она и, посмотрев на часики, решила, что пора приступать к делу. — Ну, включай свой диктофон, спрашивай. Через двадцать минут за мной муж заедет.
— Кто у нас муж?
— Муж у нас мой личный водитель. На два года младше моего старшего сына. Ты ему не конкурент, Гоша.
* * *— Ешь петрушку — мужская трава, — грустно посоветовал Кукушечкин старому другу.
— Стогами ем. Ерунда, — отвечал Сундукевич. — Я знаю средство понадежнее.
— Самое надежное средство — двадцать лет, — прервал его, не дослушав, Кукушечкин.
— Это анекдот? — спросил Сундукевич.
— Это горькая правда, — сказал Кукушечкин.
— Ну, вот, дожили, — печально подвел Сундукевич итоги жизни, — нас не только твоя бывшая жена, но и наша общая любовница обскакала. Что же это такое творится на белом свете, Гоша?
Общая печаль примирила бы старых друзей, но у Сундукевича в ожидании фирменного блюда «Р.В.С.» — шницеля «Целинного» — зачесался язык.
— Ах, Тома, Тома, — вздохнул Сундукевич, его стальные глаза налились поэтической синью, и он предался воспоминаниям. — Прихожу как-то домой, а моя незабвенная теща Прасковья Ивановна и говорит: «Звонил твой приятель Гоша, баламут, велел передать: как только Марк придет — пусть ко мне бежит. Аккумуляторы у него сели, подзарядить надо».
Как мы без сотовых телефонов жили?
Взял я два огнетушителя в поликлинике.
— Огнетушители? В поликлинике? — переспросил Дрема.
— Две бутыли болгарского вина в универсаме «Столичный», — пояснил Сундукевич и продолжал. — Захожу к приятелю Гоше. Жара. Гоша в семейных трусах, ноги кривые, волосатые. На диване девица в лифчике сидит. Гоша протягивает мне авоську: «Дуй за портвейном. На батарее нету снарядов уже». — «Обижаешь», — отвечаю и достаю из кофра два снаряда. «Тогда садись».
Сидим, гуляем.
Вдруг в дверях ключ хрустит.
Заходит Ритка, несчастная жена этого раздолбая.
У Гоши зубы, как клавиши аккордеона:
«Ритуля, а у нас гости!»
Ну, я и говорю девице в лифчике:
«Чего расселась? Собирайся. Погостили и хватит. Надевай юбку».
Ритка злая. Говорит прекрасной незнакомке:
«А вы знаете, девушка, что у Марка есть семья? Не стыдно, Марк? А с тобой, Георгий мы поговорим отдельно. Сводник!»
Вышли мы от Гоши. Спрашиваю девицу:
«Тебя как зовут?»
«Тома».
«Так я и думал. Пойдем в «Ромашку»?»
Утром звонит Гоша:
«Марк, Рита тобой очень недовольна. Давай так: больше ты ко мне проституток не водишь. Договорились?»
Через пять минут снова звонит:
«Где она?»
«У меня на даче».
«Ладно, — чувствую, обиделся, — дарю. Не последняя стюардесса в аэропорту. Еще найдем. А тебе ничего дорогого и светлого я бы не доверил».
Вот проходит быстротекущее время. Снова звонит мой друг Гоша. Опять проблемы с аккумулятором. Иду в поликлинику.
Только я нажимаю кнопку, дверь распахивается, и выбегает прямо на меня Ритка с клюшкой.
Замахивается, как Фирсов для щелчка.
Я в лифт — шмыг!
Как она клюшкой, да от всей души, шарахнет по кабине!
На волосок от погибели был.
Оказывается, в ожидании меня Гоша развлекался с Томкой на диване и в пылу любви не услышал, как вошла Ритка с продуктами и сыном. У Сашки тренер заболел, и занятие хоккейной секции отменили.
Ага, заходит Ритка, а Гоша и говорит:
«Это девушка Марка. Марк сейчас придет».
Ритка авоську на пол ставит, берет у сынишки клюшку и спрашивает:
«Если это девица Марка, отчего ты валяешься с ней на диване?»
А говорят, что у женщин нет логики.
И тут вхожу я.
Веселое время было. А, Гоша?
Ах, Тома, Тома…
— Дело не в Томе, — грустно отвечал Кукушечкин. — Пора о вечном думать, а мы черт-те чем занимаемся.