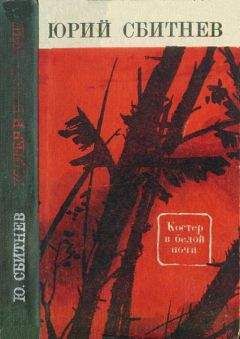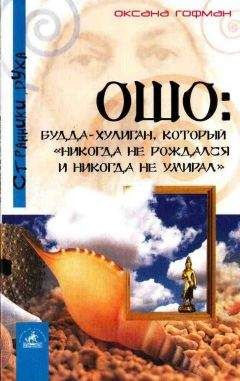Юрий Сбитнев - Эхо
Болезнь – а это, конечно, была болезнь – становилась опасной. Днем и ночью слышал я уже не только отдаленные вскрики, зов или стон, но ясно произнесенные фразы, отрывки каких-то не то причитаний, не то молитв. В осыпающейся с еловых лап кухте виделись мне фигуры людей, их тени на снегу и даже обращенные лица.
Я понимал, что со мной происходит что-то совсем неладное, что я теряю что-то такое, без чего никак нельзя быть, но продолжал вести себя вполне обычно среди людей, в привычном их кругу. Я по-прежнему бродил по тайге, проверял капканы и ловушки, окарауливал стадо, обходя с Ганалчи оленьи выпасы. Я вроде бы и ел с прежним аппетитом, но пища была безвкусна и не приносила радости. Я худел, но тело мое становилось тяжелым и неловким, часто ломило виски, и боль, пронизывая затылок, гнездилась в скулах. Я говорил себе, что заболел, что надо как-то лечиться, но сказать об этом Ганалчи по-прежнему стеснялся. Он заметил.
– Э-э-э, парень, – сказал, разглядывая меня (показалось, бесстыдно) и качая головой. – Девок по ночам видишь?
Девок я еще не видел. Но нынче ночью проснулся от прикосновения холодной ладони к лицу. Я вскинулся на постели, желая ухватить ладошку. И вроде бы ухватил, но она растаяла в руке, нахолодив за короткий этот миг ладонь. Я, кажется, уловил краешком взмутненного страхом сознания, что полог в нашем чуме стремительно приоткрылся, выпуская кого-то. И этот кто-то был Белой девушкой. Все еще с оголтело стучащим сердцем, не переводя дыхания, я отчетливо понял, что это из «Угрюм-реки» Шишкова, из многих рассказов, которыми потчевали меня русские таежники-промысловики, из какой-то, которую никак не мог вспомнить, недавно прочитанной книги, наконец, просто из моей бессонницы, когда забываешься накоротке в каком-то полубреду и вскидываешься снова, чтобы представить себе такое…
Но ладонь мою, все еще сжатую в кулак, прожигало холодом, и я, разжав ее, обнаружил в ней необтаявшую льдинку.
– Видишь, видишь, – говорил Ганалчи и качал головою. – Зачем скрывал? Правда надо. Думать будем. Нельзя молчать. Спать будешь… Здоровый будешь. На Кимчу побежим. (Кимчу – река в районе «падения» Тунгусского метеорита.)
Он устроил меня подле костра в чуме, где обыкновенно была его постель. Подоткнул под спину два жестких меховых мешка, набитых чем-то тяжелым, – я ни разу не видел их в нашей поклаже; ноги прикрыл небольшим ковриком, собранным из прямоугольников меха разных таежных животных. Тут был мех росомахи, соболя, колонка, сагжоя, горностая, сохатого и медведя, зайца и лисы, и еще, и еще чей-то мех, чей, я уже и не разобрал.
Ганалчи заставил меня считать эти меховые квадратики, начиная с длинного края к центру, как бы поднимаясь (коврик накрывал мои ноги от ступней до бедер во всю длину), а потом как бы опускаясь к его левой стороне, от центра к краю. Мне было предложено, просчитав обе половины, сложить их между собой, приплюсовать к ним три центральных квадрата, два из медвежьей шкуры и один из лосиной, запомнить и продолжить свой счет от нижнего короткого края коврика к верхнему, не останавливаясь на центральной части, но продолжая счет.
Это довольно простое задание оказалось для меня не таким простым. Просчитав несколько рядов и уже приближаясь к центру, я вдруг сбивался со счета, и приходилось начинать все сначала.
Это раздражало, и я решил бросить пустое занятие, когда отчетливо услышал строгое: «Считай, парень, считай!» – такого голоса Ганалчи я еще не слышал. Старика и не было в чуме. А голос был, и, повинуясь ему, я продолжил счет, сосредоточиваясь на том, чтобы только не сбиться.
Пришел Ганалчи. Поднял огонь в очаге, подбросив в него траву, поставил на очаг воду. Объяснил: будет лечить меня.
Счет, как я понял, тоже входил в это лечение.
– Считай, парень, считай, – снова сказал.
Я считал, преодолев пока первую половину счета. Начал вторую – от центра к краю. Но сбивался, и начинал сызнова, и снова сбивался. Отчаивался, желая бросить это занятие. Но тут же ясно слышал:
– Считай, парень, считай!
И я считал. В чуме запахло весною. И как тогда, в начале нашего с Ганалчи пути, увидел я, как красное солнышко маленьким бубном катилось впереди, стрекотали птицы, сладко и бражно пахли черемухи… смолы… и я увидел Землю Угу…
ГЛАВА VI
Что произошло 30 июня 1908 года в семь часов семнадцать минут утра в междуречье Макикты, Хушмы и Кимчу над Великой котловиной?…
Село Мога на Нижней Тунгуске в трехстах километрах от происшедшего…
– Я ту пору вот как хорошо помню – девятнадцатый годок мне шел. Встал раненько. Ночи-то белые. Ясно, чисто. Сбегал, однако, на озерушку, у меня там сетешки стояли. Рыбы страсть сколь набилось. Два потакуя со мной было, оба битом наклал. До трех раз туда-сюда с ними бегал. Нарадовался. Рыба все хорошая – взрослая. Сколько потом время было, не знаю. Часов у нас не было. Солнце по небу, как яичко лупленое, катилось. Жарко стало.
…Жар шел как бы от самой земли. Стояли вёдра, и только-только управились с покосами. Трава уродилась в том году сытая, богатое получилось сено. С вечера отец наказал Степану снова отбить косы, собирались и еще покоситься в тайге за огородами в верховьях трех ручьев…
– Изба наша, как и нынче, тут и была, – на горушке. Ее опосля только перетряхнули, а то так и стоит, как стояла. Хорошего лесу изба. Какие плотника? Сами рубили. Папаша, я и братья… Папаша умел и нас научил. Я и счас умею.
Я косы отбивал. Домашние кто чем занимался. Мамаша рыбу чистила… Конечно, все работали.
Я стучу, косу отбиваю, навроде стук не мой. Замер. И слышу, грохотня пошла. Небо чистое-чистое – ни облачка, ни тучки. Самолетов-вертолетов, конечно, и в помине не было, это уж потом пообыклися. А грохотня случилась. На грозу навроде не похоже. Никак не похоже. Откуда, дескать, грохотня? А она пуще, пуще, вот так и катит…
Стоп…
По-прежнему ясно светило солнце. Сладко пахли скошенные пойменные луга. Вдоль реки стояли не сметанные еще в зароды копны, и небо было чистым и ясным. Но грохотало где-то совсем вроде бы рядом, словно бы гром этот жил сам по себе, не трогая землю, но сотрясая небо над головою по всему окоему…
– Стоп, думаю, а не конец ли свету? В тот год людишки поговаривали, что конец свету, дескать, предвидится. Из тайги это шло. Тунгусы прибегали, говорили: «Светопреставление!» Они по всей тайге зашевелилися. Много их к нам в села выходило. С верховьев Подкаменной стада отгоняли к нам на Нижнюю и дале, к Лене-реке. Одежу хорошую на себя надевали. И наш народ с них скопировался, из сундуков что получше и красивше на себя пялить. Женщины, конечно…
Передвижение эвенков началось сразу же после родового суглана – съезда всех родов, кочующих близко друг от друга, после месяца Телят – наш май. На тайном совете старейшин постановили изменить круг кочевий – и каждому роду идти близко от другого по новому кругу.
Потом было Большое камлание, на котором Большой шаман объявил о светопреставлении. Началось по тайге движение…
– Зачем наряжалися, сказать не могу. Ну так вот, как к празднику, рядилися. Конечно, какой уж это праздник, если конец свету! А может, вовсе и не конец? Может, только преставление. Не знаю. Врать не буду. Одно скажу – тунгусы чего-то ждали.
И вот тебе грохотня идет по небу.
Дедушка у нас старый на печи лежал. Он дня своего ждал. В чистом во всем, борода, как миткаль, белая, волос-то на голове, поди, и не осталось, а череп такой розовый, чистый. Он с тунгусами долго жил, по-ихнему лопотал. Я о дедушке, конечно, вспомнил. Привскочил, конечно, на крыльцо. Шарюсь по небу – чисто вокруг, небо-то, как сейчас, белое-белое.
И – ах! Вдруг в небо то второе солнышко выкатилось. Это-то, наше, мне, значит, в темечко печет, а это, значит, катит в глаза. Глядеть не можно – черно все сделалось. Я в избу заскочил, а это новое-то солнышко в это вот окошко вошло и по печке вот так движется…
Дом стоял, как большинство русских домов по северным рекам, окнами на восток и юг. Одно окошко выходило на северо-запад, и в него светило «солнце», ложась багровым отсветом на белую стенку большой русской печи. Отсвет этот перемещался справа налево, к востоку. А в остальные окна и в другую стенку печи падало обычное солнце…
– Я гляжу, как палит по печи солнце с того окна, аж рот раскрыл. Никогда такого не было. А грохотня катит и катит. Спасу нет. Дедушка на печи сел и громко, в голос, молитву запел. Поет и мне: «Степка, молися! И все молитеся! Свершилося… Пришло…»
Какой тут молиться! Бежать бы куда! А некуда. Везде грохотня. И огненный шар в нас метит. Полоз, полоз по печи… Да и остановился. Стоп… Я в окно глянуть боюся, а на печи, вижу, – встало. И тут как сорвалося, чиркнуло по печи и скрылося. А гром стоял – ужасть. Затряслася земля, меня на пол повалило, а окошко как словно кто выдавил, так стеклом и брызнуло…
Возникший в чистом, безоблачном небе огненный шар приближался к земле с растущим грохотом. Он на глазах увеличивался, пламенел и настолько налился мощным огненным светом, что на него невозможно стало смотреть. В какой-то неуловимый миг страшный грохот перешел в непрерывный гул, и шар этот, прекратив движение, завис над землей, как зависает над горизонтом предзакатное солнце. Время этой остановки трудно определить, но огненный тот шар не двигался – настолько, что это могло отметить и потрясенное случившимся человеческое сознание. Шар стоял…