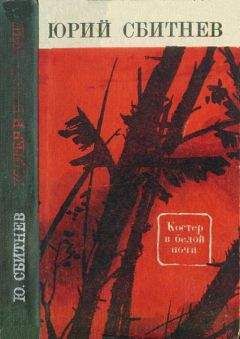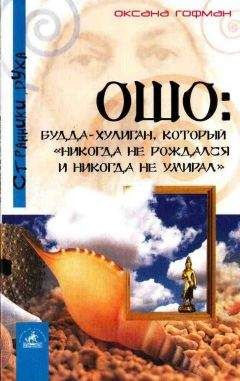Юрий Сбитнев - Эхо
Ганалчи запел. Но это не песня – вой огня, бушующая сила взрыва, готовая поднять нымгындяк до самых звезд. Звук нарастал, ширился, словно бы одна за другой включаются новые и новые тяги… Но нет, не хватает мощи, еще капельку, еще чуть-чуть! И тогда все, охваченные одним порывом – только бы произошло, только бы совершилось! – единой силой вторят.
И происходит! Совершается!
Качнулась земля, выбросив от себя малый комочек живого. Загудело за олдаконом пламя совсем по-иному, чем гудело секунду назад. Шорохи и сухой свист рассекаемого воздуха, но он все глуше, глуше. Взлет стремительнее и неукротимее.
Летим… Лечу и я и эти люди, вовсе мне неизвестные, но такие родные и близкие в минуту полета радости. Летит, перехлестанный ремнями к несущим (когда это произошло, не заметил), наш Смотрящий в небо, и бубен в его руке медленно, словно антенна радара, направляет полет. И с кем-то переговаривается, и течет, утекает куда-то рядом и во мне стремительное время. И голос, то высокий и строгий, то тихий и ласковый, произносит и произносит какие-то слова на языке, недоступном землянину, но смысл их странным образом понятен всем. И я вижу, что происходит вне, за оболочкой нашего мира.
Мы минуем общность людей, лишенных голов, попадаем в пространство, лишенное круга жизни, восстаем в далеких загадочных мирах, касаемся неприкасаемого и видим невидимое…
Так вот оно, самое страстное чувство, которое томит всех нас, людей, без исключения, – чувство полета… Не плыть, не вгрызаться в глубь земной тверди, но лететь через миры и созвездия, через необъятную толщу времени к другим галактикам, ощущая их своими, лететь и не кончаться…
Быть, быть и быть!…
Мы сидим с Ганалчи подле крохотного костерка на берегу Вювю. Он бледен, глубоко запали в глазницы глаза, лицо похудело и осунулось. Я замечаю на шее его, на щеках, у глаз десятки новых глубоких бороздок морщин. Старик нездоров, и пот тоненькими струйками скатывается по височкам к скулам и по глубокой впадине под затылком за ворот. Большим головным платком Ганалчи вытирает пот, но он снова выступает на желтой нездоровой коже.
В то утро его сняли с привязных ремней и уложили у очага в нымгындяке. Люди выходили из нымгындяка, как идут от могилы, попятным шагом, не спуская глаз с бездыханного тела.
Трое суток Ганалчи спал, не проявляя никаких признаков жизни. Несколько человек, оставшихся на острове, берегли этот сон. Тихонечко ходили вокруг нымгындяка, прислушиваясь, что происходит внутри. Но внутри ничего не происходило.
А потом заговорила негромко голова-бубен. И люди побежали в стойбище сообщить, что пора собираться в нымгындяк снова.
Никто не позвал меня туда, но я сам зашел в чум и сел на прежнее место. Ганалчи, теперь уже не шаман, в обыкновенной одежде, сидел подле очага, маленький и слабый, изнуренный до последнего непосильной работой. Он долго говорил что-то людям неторопливо и толково, редко сопровождая свои слова жестом, и все слушали затаив дыхание, и на лицах их видел я то удивление, то радость, то глубокую грусть и великое удовлетворение… Они были счастливы.
И вот мы снова вдвоем. Я жалею старика, мне больно от его такого убогого вида, нежность к нему переполняет меня, и хочется говорить и говорить какие-то такие слова, от которых бы стало ему легко, весело и счастливо. Но я не знаю таких слов, а те, что знаю, кажутся мне сейчас слишком подержанными, слишком истертыми от долгого употребления.
И хочется мне сказать еще и то, что так необходимо сказать ему, поскольку ради меня и совершалось все то на крохотном таежном островке среди болот. Это я упросил его совершить последний обряд ушедшего времени…
Но я хочу теперь большего.
– Скажи, почему ты так поступаешь? Почему можешь так воздействовать на людей? Или ты вправду слышишь голоса предков, общаешься с ними?
Он молчит, а я говорю:
– Или это все только придумано тобою? И ты, не видя и не слыша ничего, убеждаешь меня, их, что слышишь и видишь? Но почему я верю тебе? Почему, помимо своей воли, впадаю в то странное состояние мира, когда без крыл, без реактивных тяг ощущаю, переживаю, живу в необычайном полете? Ведь я же летал… И они летали! Да?
Он кивает и молчит. Я говорю:
– Понимаешь ли ты мои слова? Понимаешь, о чем я говорю?
Тяжело разлепляются его губы:
– Да…
Он молчит. А я говорю:
– Если ты даже и обманываешь меня… Но я не верю в это. Если ты обманываешь, то все равно то, чего ты добиваешься этим обманом, непостижимо. Ведь это великое действо – ты творишь мир, миры, мироздания…
Я волнуюсь, и голос мой дрожит, и так хочется говорить с ним по-другому. Но по-другому не умею. Я знаю только так.
– Кто научил тебя этому? Как все это происходит в тебе? Я вижу, каких это напряжений, каких это сил стоит. Но как?
И вдруг он поднял резким броском голову, посмотрел мне в глаза и сказал самое неожиданное, что мог я услышать от него:
– Придет Время, и наука узнает… Так это было сказано. И еще:
– Думать надо…
И снова я был потрясен!
Спустя три года после смерти Ганалчи я снова проплывал по Великой реке дальше и выше – на Север.
За Хологом, который называю теперь Холи, меня встретил знакомый рыбак.
– Слушай, тебя жена Макара Владимировича ждет. Их стойбище у Дигдали.
Я удивился:
– А разве у него была жена?
– Во даешь! А дети: сыновья, дочери, внуки, правнуки, праправнуки… Он что, их из глины исделал? Даешь, парень!…
У Дигдали, таежной речушки, встретила меня бабушка Дари. Так вот кто был его спутницей! А я не знал! Бабушка да бабушка! Она и в чуме отдельно жила… Бабушка Дари… Как же это я ни разу не подумал, что она и есть жена Макара Владимировича! Не шибко я разбирался и в тех, кто был его сыновьями, внуками, дочерьми и внучками. Он один был для меня – все.
– Откуда, бабушка, узнали, что плыву по реке? – спросил я, здороваясь и улыбаясь ей.
Она раньше совсем вроде не понимала по-русски, но тогда улыбнулась, и крохотное, все в морщинках, лицо ее еще больше сморщилось.
– Знаю, знаю, – сказала, и мелко-мелко затрусились седая голова и руки – она была очень стара. – Тебе наказал отдать! – И протянула скрученную в трубку и перевязанную бечевкой какую-то довольно большую шкуру.
– Ганалчи?
– Та-та, Каналти…
Она не пригласила меня в стойбище, но помахала слабо ладошкой:
– Страствуй, страствуй… – что, вероятно, должно было означать «до свидания».
Я поклонился ей и поплыл дальше. Оглянулся: старушка медленно и тяжело взбиралась на бугор. Спустилась только для того, чтобы встретить.
Мне не казалось необычным, что она вышла к реке тогда, когда проплывал там. Не удивился и сообщению рыбака, что жена Ганалчи ждет меня. Но потом долго над этим думал. И как многому, что было связано с памятью о Ганалчи, не нашел ответа. Был бы жив старик, объяснил: «Думать надо…»
Сверток оказался ритуальным ковриком-кумаланом, тем самым, которым накрывал меня Ганалчи во время болезни и заставлял считать на нем вшитые квадратики меха.
В кумалане лежал еще грубо кованный наконечник стрелы, одной из тех, с которыми охотился Умун, деревянный крючок для вязки сетей и два черных, словно каленных на Великом огне, круглых, неземных камня…
Это было письмо от Ганалчи, на чтение которого ушло у меня четверть века…