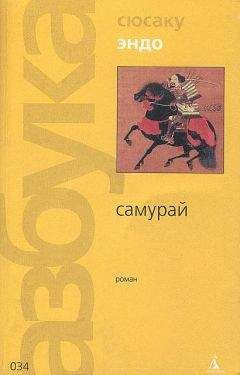Генеральская дочь - Гривнина Ирина
Больные в грязных байковых халатах брели им навстречу, к воротам, слонялись по боковым аллеям, стояли, сидели на скамейках, погруженные в свой, недоступный окружающим, шизофренический мир. У некоторых сильно дрожали руки, и приехавшие из города родственники с ложечки, как маленьких, кормили их домашней снедью.
Почему-то он безумно боялся этих беспокойных рук и лишенных интереса к происходящему, словно навеки повернувшихся внутрь собственной души, глаз. Он боялся отца, постепенно превращавшегося из подвижного, крикливого человека, каким с детства помнил его мальчик, в тихое, покорное существо с влажными ладонями и дрожащими пальцами. Отец был худощав, а это существо тучнело на глазах из-за лекарств, тяжелой мучной пиши и малоподвижного образа жизни.
Мама старалась не задерживаться долго. Они приезжали после завтрака, а уходили когда начинался обед, чтобы отцу не вздумалось проводить их до ворот, где за рулем его (правда, подаренной тестем и записанной на имя жены, но все же его) машины поджидал его жену счастливый соперник.
«Влад с нами тогда не жил еще. Сыну-то я не сказала, что собираюсь с Толей разводиться, думала, пусть сперва привыкнет, что папа не с нами живет. Зачем травмировать молодую душу, верно? Но Влад к нам в гости приходил часто и старался контакт с мальчиком наладить. Ему ведь нужно было и мужское воспитание, а Влад, он такой спортивный, дзюдо знал, истории всякие рассказывал. Но почему-то он Влада даже слушать не желал. С чего бы это — не понимаю. Раньше, маленьким, он им так восхищался! Так его любил!
Я очень, очень беспокоилась, чтобы по наследству болезнь Толина не передалась. Но врачи меня успокаивали, говорили — редко передается».
Теперь, когда отец не жил с ними более, мама почему-то зачастила в Годуново.
«Надо почаще бывать на воздухе, — говорила она, — и вообще, дед соскучился». Она внезапно полюбила ночевать на даче, и теперь они оставались там по два, а то и по три дня. Отвозил их в Годуново дядя Влад, все на той же старенькой папиной машине. Мальчик хорошо помнил те времена, когда дядя Влад был дедовым приятелем, и по привычке ждал, что сразу по приезде этот чужой человек засядет играть в карты с дедом. Но карты, похоже, больше не интересовали дядю Влада. Оказалось, что теперь он — энтузиаст пеших прогулок. Они с мамой надолго уходили в лес, а когда возвращались, мама выглядела неестественно оживленной и смеялась шальным, незнакомым смехом.
В холодные, дождливые дни невеселой подмосковной осени дядя Влад и мама гулять не шли, садились поближе к печке в «диванной» и о чем-то тихонько разговаривали. Если же он ненароком входил в комнату, то мама со вздохом оборачивалась, смотрела на него укоризненно, и мальчик понимал, что вошел некстати и должен уйти.
Он все меньше времени проводил с мамой, хотя и продолжал жить вместе с нею. Почти каждый вечер, вернувшись с работы и покормив его ужином, мама извиняющимся голосом объявляла, что у кого-то из ее подруг день рождения. Или — что ее пригласили в театр. Причины были разные, а результат — всегда один и тот же. Наряжаясь перед зеркалом, мама говорила:
«Ты уже большой, побудешь один пару часиков, спать ложись, пожалуйста, вовремя…»
И уходила, а он был свободен делать все, что вздумается. Часов до восьми-девяти еше можно было заниматься (их комната была угловая, пианино стояло у наружной стены и не слишком мешало соседям). Потом он читал или возился с ледериновой тетрадкой: переписывал в нее свои детские дневники, отредактированные, подправленные впечатления одинокого деревенского мальчика.
Собственно, одиночество стало к тому времени его привычным состоянием. И как в детстве он уходил в лес, так теперь полюбил гулять по городу. Переулками выходил к главной улице (он знал, что горожане в шутку называют ее «Бродвеем», и долго считал, что название произошло от слова «бродить»).
Он и брел не торопясь, стараясь оправдать название, в сторону центра, и незаметно добредал до площади. В те поры здесь появился наконец долгожданный памятник знаменитому футуристу и поэту, своевременно и загадочно погибшему и потому объявленному «лучшим и талантливейшим» целой эпохи.
И почти сразу же любители поэзии, сговорившись между собою, стали регулярно собираться здесь почитать стихи — чаще всего по субботам. Он старался не пропускать суббот (тем более что по субботам почти всегда оставался один), смирно стоял среди стиснутых общей страстью незнакомых людей и слушал волшебные строки никогда прежде не читанных стихов.
Как-то, дело было весною, он явился чуть позже обычного и, не найдя на площади привычной толпы, очень удивился. На огромном, залитом светом дуговых фонарей пространстве только милиционеры торчали по углам, наблюдая за порядком, да кучка молодых людей жалась на ступенях у памятника, о чем-то негромко разговаривая. Он подошел поближе, вежливо поинтересовался: почему сегодня не читают? И, еще не докончив фразы, понял, что совершает грубую, непоправимую ошибку: лица все были чужие, пустые, одинаковые.
В следующую секунду он уже сидел в машине, профессионально зажатый между двух крепких мужичков в штатском, и скоро был введен в двери прятавшегося в проходных дворах, спиною повернутого к празднично освещенной улице отделения милиции. Его грубо толкнули, протащили по коридору, бросили на скамью против плотно прикрытой двери. И, медленно приходя в себя после шока, он смог наконец оглядеться.
В милиции царило небывалое оживление. Взад и вперед по коридору озабоченно сновали крепкие ребята, неотличимые друг от друга, ни от тех, кто приволок его сюда. На ходу они вполголоса передавали друг другу распоряжения, входили в комнаты, выходили, аккуратно прикрывая двери за собою. Иногда из двери в дверь проводили, крепко ухватив за локоть, каких-то людей, и раз он узнал парнишку, читавшего на прошлой неделе стихи про Аравийский полуостров.
Строки этих стихов, словно ждали своего часа, всплыли в памяти, и он начал тихо, почти беззвучно, повторять их:
Так он сидел и бормотал стихи. Возбужденное движение вокруг постепенно утихало, и до него стали доноситься глухие звуки из-за двери напротив. Как будто кто-то старательно выбивал старый, пыльный диван. А потом дверь эта отпахнулась резко, и он увидел штатского за столом у окна и еще троих, стоявших спиной к двери. На простой табуретке, боком к дверям, сидел человек.
«…меня в тот раз не били, но я до сих пор помню изуродованное побоями лицо этого человека. И выражение лица: мне показалось, что он презрительно улыбается. Наверное, он тоже читал стихи, и за это они его избивали. За стихи. Он сидел в неожиданно свободной позе, прикрыв глаза, опираясь затылком и плечами о стену. Как будто, расслабившись, отдыхал после трудной физической работы. И я вспомнил героя романа Джека Лондона „Межзвездный скиталец“, который улыбался в лицо тюремщикам после пыток. Таким, как он, я хотел быть. Таким — гордым и сильным. И испытывать презрение к физической боли. Я не знал, что произошло, почему нас всех притащили в милицию. Но чувствовал странную, непривычную правоту. Может быть, потому, что не видел преступления в чтении стихов? И мне стало стыдно, что я так растерялся в первую минуту. Изо всех сил я постарался распрямиться…»
Эти старания распрямиться могли привести ко вполне печальным последствиям. Ибо человек, который ведет себя не так, как обычные испуганные граждане, вызывает у всякого, облеченного хотя бы крохотной властью бюрократа необоримое желание «сломать» непокорного. А тут был такой благодатный момент для ломки — объекту едва минуло четырнадцать лет.