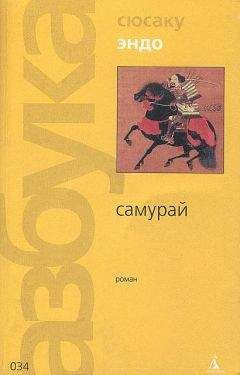Генеральская дочь - Гривнина Ирина
В школе он доверчиво обрадовался новым одноклассникам и тому, что может наконец быть «как все», что кончилось привычно-особое положение, которое он занимал в Годунове. Здесь — почти все много читали, все занимались музыкой и, наверное, многие были способнее его.
Все же стать таким, как все, в вожделенном мире городских детей ему не удавалось. Чистенькие мальчики и девочки, шокированные деревенскими манерами новичка и судорожными попытками подружиться, сторонились нового товарища.
Он долго не понимал и не замечал этого, и все вокруг казалось ему интересным и значительным. Обрывки непонятных разговоров во время перемен, волшебные слова: «гармония», «теория музыки», «сольфеджио»… В вестибюле, на доске объявлений, прикноплены были прошлогодние афиши, украшенные фотографиями фрачных красавцев, сжимавших небрежною рукою грифы скрипок или виолончелей. И, привлеченный этими афишами, он стал ходить на концерты в знаменитый Большой зал со скрипучими дубовыми стульями партера и портретами великих композиторов на белых классических стенах.
Раньше он слушал музыку дома, по радио, и слова «Передаем трансляцию концерта из Большого зала» приводили его в трепет. В мягком полумраке пустой комнаты (бабушка звала ее «диванной») он забирался с ногами в кресло и воображал зал, и нарядную публику, и себя — исполнителя чудесных мелодий, — вознесенного над нею. Он плакал, смеялся, дирижировал невидимым оркестром… Одного он не смог вообразить: как будет сам слушать музыку, сидя в этом зале.
Живой оркестр непривычно развлекал. Заглядевшись на музыкантов, он забывал слушать, приходилось закрывать глаза, чтобы сосредоточиться. Вдобавок он стеснялся соседей по ряду и изо всех сил старался скрыть от них свои переживания. Так что, несмотря на всемирно известную, восхитительную акустику знаменитого зала, концерты были для него скорее мучением, чем удовольствием, а потому и ходил он в Большой зал нечасто.
Раз, торопясь домой мимо примелькавшихся уже афиш, он увидел нечто для себя новое: «И. С. Бах… Орган… Исполнитель…»
Органной музыки он никогда прежде не слушал, концерт был завтра, в субботу, сразу после уроков в школе, а «входной» билет стоил всего 50 копеек.
Он пришел в восторг еще до того, как прозвучал первый аккорд: сцена была пуста, дирижера не предвиделось, а исполнителя, похоже, будет видно только во время короткого прохода от кулис к инструменту. Публики было немного, он занимал в одиночку целый ряд в первом амфитеатре и впервые почувствовал себя почти свободно. Замечтавшись, он не заметил, как органист уселся на свое место и очнулся, только когда мощный звук незнакомого инструмента торжественно нарушил тишину зала. Он вздрогнул от неожиданности, ощутил легкую вибрацию пола, резонансом откликнувшегося на глубокие, свободные звуки басовых труб, у него сладко защемило сердце, закружилась голова… И он позабыл свой потеряный рай — зимний волшебный лес, Замок Зеленого Льва и таинственную тишину чужих заколоченных дач.
В городе ожидало его еще одно, совсем новое удовольствие: знаменитый оперный театр. Сюда, правда, он попадал нечасто, и сперва очень страдал оттого, что надо было до начала спектакля успеть прочесть и запомнить либретто («иначе, — говорила мама, — ничего не поймешь»). Довольно скоро он обнаружил, что удовольствие от балета можно получать, и не понимая, что происходит на сцене, и не утруждал себя более запоминанием банальных сюжетов. Он рассеянно следил за тем, как красиво сливаются с музыкой движения женщин, едва прикрытых легкими шелками, и мужчин, затянутых в трико и камзолы, благоговейно впитывал звуки и мечтал, сам не зная о чем, а когда мама шепотом окликала его, делясь впечатлениями, испуганно вздрагивал и на всякий случай соглашался.
Впрочем, чаще всего это были не музыкальные впечатления. Мама, бедняжка, была наглухо не музыкальна. Тем важнее отметить, что билеты доставала именно мама. Вернее, доставал дядя Влад, но делал он это по маминой просьбе, ради мамы. Поэтому и программа была составлена с учетом ее вкусов: мама ненавидела оперу и обожала балеты.
«Это уже потом, в конце пятидесятых, когда он серьезно начал ухаживать за мной. Присылал цветы с курьером из редакции или доставал билеты в Большой театр, всегда в партере, в первых рядах. Мы сидели просто среди иностранных дипломатов! Как-то я встретила там женщину в брюках, и это было так странно, у нас-то брюки носили маляры да лыжницы…
Толя? Нет, не возражал. Он знал, что я с Владом ходила. А с кем же еще, если сам он балета не любил, говорил, что государи императоры изобрели балет, чтоб без помех на женские ножки смотреть, и балерин называл „императорскими проститутками“?
Конечно, когда сын к нам перебрался, я иногда его с собой брала. Ведь раз он серьезно музыкой занимается, должен к мировой классике приобщаться, верно?
У нас традиция была такая: после театра заезжать к маме Влада, они вместе жили, две смежных комнаты в общей квартире.
Она ничего тетка была, но со странностями. Старая уже, старше моей мамы лет на десять, наверное. Муж ее бросил, она рассказывала, перед самой войной. Я только после узнала, что не бросил он ее, а был расстрелян в сорок первом, как враг народа. Он архитектором был, Влад мне клуб, по его проекту выстроенный, показывал. Как раз тот, в котором пожар перед войной случился. Кого, как не его, было во вредительстве обвинить! Почему? Но ведь он все планы знал, он же строил. Вот и пришлось ей из Ленинграда бежать в Москву, к родителям, чтоб не арестовали. Квартира ленинградская так и пропала.
В Москве-то площадь достаточная была, и район хороший. Соседей — одна семья только. Но уж семейка — врагам не пожелаешь. Влад рассказывал, как они бабушку его изводили: то раковину в ванной назло расхлопают, то соли полпачки в суп всыплют. Раз кошку ее с четвертого этажа вышвырнули за то, что на стол в кухне вскочила.
Короче, жить там нельзя было.
Поэтому, когда я с Толей развод затеяла, я настояла, чтоб мать его к себе прописала. Это формальность, конечно, была, так и так он в больнице, но зачем же мне этот дамоклов меч? И так достаточно я им отдала, всю лучшую пору жизни, всю молодость прожила с больным.
Сперва-то незаметно было, ну, вспылит не по делу, поругаемся — и замолчит, неделю слова не вытянешь. Да, еще сны ему странные снились, он иногда рассказывал, что видит, что в будущем случится…
На Севере, как инцидент произошел и его в отставку уволили, он все говорил, что это прикрытие только, чтоб скандала не раздувать. Я-то понимала, что дыма без огня не бывает, но — деваться некуда было, сын у нас подрастал. Да и не замечала я ничего, и никто не замечал. В Москву переехали — он даже работал.
Когда? А вот как Влад стал мне особое внимание оказывать, тогда примерно и началось у него. Главное, непонятно с чего. Влад к нам и раньше приходил, в тети Шурины еще времена, и не ко мне, а к Толе, дружили они. После, как у него с тетей Шурой кончилось, тоже приходил. Подтянутый, галантный, цветы дарил, ручки целовал. Но Толя-то всегда при этом был! И вдруг, ни с того ни с сего, начал следы искать на полу. Вернется домой и говорит:
„Ты любовника завела. Я точно знаю, тут был мужчина. Сама посмотри — вот они, на полу, — отпечатки его ступней“.
Да, так и говорил: „отпечатки ступней“…
Про нас-то с Владом? Конечно, не знал. Да не у себя же в коммуналке я с ним…»
Был конец августа, он возвратился из Годунова, где, как всегда, проводил каникулы и обнаружил, что отец не живет с ними более. Мама объяснила ему, что папа внезапно заболел, что он в больнице, что это, возможно, надолго и что они будут папу навещать.
Каждые две недели, по воскресеньям, мама с утра надевала траурное выражение лица и укладывала в сумку заранее приготовленные продукты и вещи: копченую колбасу, печенье, сыр, смену белья, теплые носки. Больница была далеко за городом, и всегда готовый помочь дядя Влад отвозил их туда на папиной машине. По дороге он шутил с мальчиком, а когда подъезжали к больнице, останавливал машину чуть в стороне, метрах в ста от входа, поощрительно улыбаясь, шутил в последний раз: «Шофер Вася подождет!» — и они с мамой проходили эти последние сто метров пешком, входили в ворота и шли к корпусам по широкой, посыпанной толченым кирпичом дорожке.