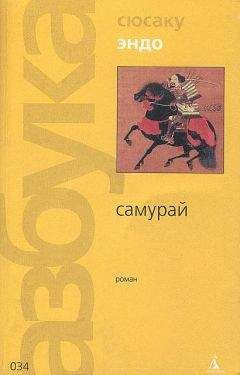Генеральская дочь - Гривнина Ирина
Он слушал бесконечные разговоры взрослых о странностях покойного соседа, не допускавшего к себе никого, кроме доверенного врача и кухарки, она же уборщица, она же сиделка. Кухарка жила не в доме, а в маленькой сторожке у ворот, куда был предусмотрительно проведен электрический звонок. Рассказывали, что в ту роковую ночь больной, видно, почувствовал приближение приступа, потянулся к звонку, не достал и, не удержавшись на кровати, скатился на пол. Очевидно, он ушибся головою о край стула, стоявшего у постели, об этом свидетельствовала неглубокая ссадина на виске. От этого, полагала бабушка, Костя (оказалось, что старика звали Костей) мог потерять сознание и умереть, не успев позвать на помощь.
Бабушка вспоминала свою недолгую службу в больнице и все удивлялась, почему не было «круглосуточного дежурства», а дед ворчал сквозь зубы что-то непонятное. Все было странно, и особенно был странен разговор, подслушанный мальчиком в гостиной накануне смерти соседа.
В тот вечер к деду неожиданно явился дядя Влад. После обеда они, как всегда, засели в гостиной, а он, загодя забравшись в «вольтеровское» кресло у окна, приготовился слушать. Негромко шлепали карты по столу, слышны были непонятные слова «пас», «без одной»… Свернувшись калачиком, он едва не задремал со скуки и не сразу понял, что разговор за столом давно пошел другой, правда, тоже непонятный, что дед сипло кричит на партнера, а тот вяло оправдывается.
«Да как ты можешь? Да ты знаешь ли, что за такие слова?..»
«Кто ж знал, что вы в этом ведомстве работали? Вы ж свою службу не афишировали, так? А я не придумал ничего, все чисто, бумагу специальную взял в Союзе журналистов, и мне Батино дело прямо из секретного архива выдали. „По реабилитации“. Словечко-то какое выдумали, а? Сперва угробят, потом реабилитируют. Книги писать разрешают. Памятники ставят.
После инцидента, как мы отход флота прикрывали — да я вам историю эту сто раз рассказывал, — всю команду, понятно, под трибунал потянули. Следователь один из вашей шараги дело вел, так ловко все повернул, нас чуть ли не дезертирами выставил. Всем — штрафбат. Батю, конечно, берегли, да как убережешь, если из восьмисот человек восемь выжило?
А вы, оказывается, с гадом этим забор в забор жили, со следователем Ставраки…»
«И что ж ты делать собрался? Интервью у него брать? Так он тебе и даст!»
«Даст не даст, а я к нему вес равно пойти должен. Для очистки совести. В глаза его поганые глянуть…»
«Да как ты к нему попадешь? Кто тебя пустит?»
«Как попаду, как попаду. Надо — так под землею пройду, ясно?..»
«Костина дача рядом с нашей была. Но знаете, душенька, тут я вам ничем помочь не могу. После того как Иона с ним в пятьдесят шестом поругался, мы туда больше не ходили. До того, конечно, бывали. Тем более Костя Иону после войны очень выручил, очень.
Нас когда из Берлина отозвали, об отставке даже речи не было. Просто новое назначение Ионе дали — в Литву, на укрепление тамошнего управления. Он возглавить его должен был. Иона туда сразу поехал, я пока в Москве у Шурочки оставалась. И вот он едет, а тем временем генерала, который должен был дела ему сдавать, арестовывают. Но Иона после Ленинграда уже ученый был: сразу — в самолет, и назад, в Москву. Костю еще во время войны в Москву перевели, в союзное управление. К нему-то Иона прямо с аэродрома и помчался, узнать, что дальше делать. И Костя посоветовал ничего не делать, а срочно в отставку по состоянию здоровья проситься. Пенсия, сказал, генеральская будет, дача под Москвой. А не послушаешься — сам сгоришь и всю семью за собой потянешь. Борьба против космополитизма — это тебе не шуточки. Политика правительства меняется, русских людей выдвигают.
Нет, не в том дело, что он был старше, просто Костя вечно в центре крутился, а мы — валенки, провинциалы. Да еще из Берлина, там и вовсе никакой информации не было, все начало кампании по борьбе с космополитизмом, можно сказать, пропустили.
Иона его послушался, конечно, хотя не хотелось ему страшно: молодой еще был, недавно только полвека справили. И после, после так обидно, страшно обидно было. Пенсия-то генеральская сиротская нам досталась. Другим и квартиру, и машину, и дачу, и порученца. А Ионе только дачу дали. Даже машину для детей нам самим пришлось покупать, Лялю в очередь на квартиру на общих основаниях ставили. И обслуги положенной нам не дали: уборщица из санатория раз в неделю приходила, да кухарка Вера, раз в год по обещанию, „по договоренности“. Вот и все уважение, что нам оказали за тридцать лет беспорочной службы.
Сам-то Костя чуть не сгорел в пятьдесят третьем, по делу Берии, он ведь все наверху крутился, заместителем чьим-то был — Абакумова или Мамулова — не помню. Но — повезло: он со своей болезнью как раз в госпитале лежал.
Страшная болезнь, душенька. У него что-то в легких осаждалось, дышать совсем не мог. Очень плох был, думали — все, не жилец, потому и не арестовали. Но оклемался, и как раз к тому времени кампания антибериевская утихать начала, о нем и забыли. Так что он спокойно в отставку вышел и рядом с нами поселился.
А тут — пятьдесят шестой год, доклад Хрущева. Иона с партсобрания вернулся весь черный, лег на бок и пролежал так трое суток, ни с кем не разговаривал, не ел, только воду вставал пить. А как отлежался — к Косте побежал: как такое случиться могло, да какие такие „недозволенные методы следствия“, да как это так, да мы ничего не знали, коммунистов честных сколько поубивали, вредительство, наверное, было.
Но Костя его неприветливо встретил: мне с тобой, сказал, говорить не о чем. Чистеньким хочешь остаться? Ты что ж, не бил, когда показаний не давали?
Это надо было Ионе такое сказать! Ионе, который всю жизнь за справедливость, от бандитов, от врагов, от предателей землю нашу очищал.
С бандитами-то? Может, когда-то и не сдерживался, а как с ними еще, с убийцами?
Да, не поняли они тогда друг друга. Так дружба наша и кончилась… На похоронах я была, конечно, и плакала. Не знаю, правда, от чего больше: от того, что Костя умер, или от того, что внука у меня забирали. Очень тяжело мне тогда было, словно чувствовала я, как дело повернется. Если б знала, не отдала бы им мальчика, не отдала бы…»
Он не знал еще, что всякая мечта хороша, лишь пока недоступна. Родители жили в старом двухэтажном доме, до революции принадлежавшем мешанину Хомову, а после, в результате серии реквизиций, превращенном в «коммунальное» жилье. Потомки ловкого мещанина занимали не одну, а целых три комнаты и, по старой привычке, именовались «хозяевами».
Родителям повезло: их комната (бывший хомовский кабинет) была довольно большой, с просторной нишей, которую мама называла красивым словом «альков». Этот отгороженный занавеской альков и стал его комнатой: здесь поместились узкая тахта и маленький столик. На стене над тахтой отец приколотил длинную самодельную полку для книг.
Трудно сказать, что мешало ему наслаждаться долгожданным исполнением желаний. Может быть, резкая перемена жизни. А может быть — то, что теперь он жил в одной комнате с родителями и почти никогда не оставался в одиночестве. Вдобавок маме почему-то очень хотелось, чтобы вечерний чай приготовлял он. Это называлось: «хотя бы мало-мальски помочь родителям, которые…» В принципе, он не прочь был помочь родителям, если б помощь эта состояла в чем-то другом. Может быть, надо было поговорить с ними, объяснить, но в присутствии папы, ненавидевшего трусов, он не смел произнести слова:
«Я не нехочу, я боюсь, потому что на кухне вечером темно, потому что это самое страшное место на земле».
И он хитрил, тянул время, в сотый раз, нарочно путая ноты, повторял давно выученную вещь («вот видишь, ты меня отвлекла, и я запутался… вот кончу… сейчас…»). В конце концов, идти все равно приходилось.
Огромная общая кухня помещалась в полуподвале, узкие, пыльные оконца под потолком почти нс пропускали света. Электричество включалось почему-то не у входа, а на дальней от двери стене, и он пробирался к выключателю, гремя крышкой чайника, чтобы испугать неведомых чудовищ, хоронившихся в темных углах, за столами и шкафчиками многочисленных соседей. А маленькая, злобная старушка Хомова, жившая возле кухни, после жаловалась маме, что он шумит и «мешает отдыхать».