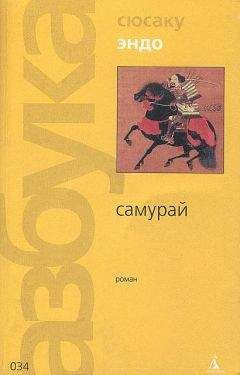Генеральская дочь - Гривнина Ирина
Он шел и мысленно повторял только что сыгранную вещь, любуясь красотою одному ему слышных звуков. Потом стал вспоминать стихи, недавно тайно переписанные в ледериновую тетрадочку. Стихи эти дяди Владов приятель привез из другого города, и автор их, говорят, уже сидел в тюрьме. Странно, подумал он, стихи-то неполитические. За что же в тюрьму? «Тюрьма» и «стихи» вернули его память назад. Он снова увидел холодный весенний вечер, пустую площадь, людей с одинаковыми лицами, вспомнил невыразимо пошлый, казенный запах милиции. Даже лицо избитого человека вспомнил он и, резко повернув, пошел в сторону плошади.
Он давно не был здесь, безотчетно избегая возвращаться в те места, из которых вынули душу. Но сегодня был особый вечер, волшебный вечер, сегодня с ним должно было случиться что-то особенное, он ведь верил в волшебство.
«Я увидел их издали. И почему-то сразу понял, что они читают стихи, что они, как и я, соскучились по этому празднику свободы. Хотя их было всего трое, толпы не было. Девушка сидела на ступенях позади памятника, а двое ребят стояли. И один читал. Еще издали я почувствовал — по ритму и отдельным долетавшим словам, — что он читал стихи того самого, арестованного поэта:
Это было настоящее чудо — встретить в ночном городе людей, которые читают стихи. Да не просто читают стихи, а те самые стихи, о которых ты только что думал. С такой сценки, абсолютно нереальной, не-бывающей-в-жизни, можно было бы начать роман. Я подошел ближе. Они не испугались, девушка (потом я услышал, ее звали Галей) даже улыбнулась мне и знаком показала, чтоб я сел с нею рядом. Но я остался стоять, вслушиваясь в ритм, забывая о страшном, пророческом смысле слов:
Он читал еще и еще, мастерски, профессионально. Читал и каких-то других поэтов, их имен я никогда не слыхал.
Потом вдруг начал рассказывать парню, которого называл Павликом, как его таскали в милицию несколько лет назад за чтение стихов здесь, на площади. И, вглядываясь в его лицо, я попытался угадать, не видел ли я его на площади в те годы? Или — в милиции? Нет, его не били, его история была скорее забавной, чем страшной.
…и пришел, как всегда вечером, читать.
Но, видно, они меня специально караулили, прямо у метро сцапали, потащили, в машину сунули, повезли. Приезжаем. Сидит за столом лейтенант, пережевывает чей-то паспорт.
„Нарушаете, молодой человек?“
Я ему говорю:
„Что ж это я такое нарушаю?“
„Стихи, — говорит, — против Советской власти читаете“.
„Позвольте, — говорю, — как же против Советской власти, если я Маяковского читал, который, — говорю, — был и остается лучшим и талантливейшим советской эпохи? Я, — говорю, — `Про это` читал“.
„Про что, про что?“ — спрашивает он.
„Про это“, — говорю…
Он так „вкусно“ рассказывал, так заразительно смеялся, что привод в милицию стал казаться мне не более как увеселительной прогулкой. Мне даже жалко стало лейтенанта, не знавшего стихов Маяковского.
Они были на несколько лет меня старше, уже институты кончили. Почему-то я постеснялся тогда с ними поближе познакомиться. Потом жалел…»
После того как он отлично сдал школьные экзамены, поступление в консерваторию было делом решенным. Единственное, чего он опасался: удастся ли сменить класс рояля на класс органа. Но и тут судьба пошла ему навстречу. Кто-то из великих в ответ на просьбу о переводе заметил, что это и к лучшему, что он «слишком поздно начал» и «все равно не успеет достигнуть» фортепьянных высот (орган считался легче с точки зрения техники исполнения). Дорвавшись наконец до инструмента своей мечты, он так увлекся, что вовсе перестал замечать окружающее.
Шел 1968 год, когда он очнулся и впервые в жизни заинтересовался газетами, полными удивительных сообщений из Праги. Эти сообщения вносили в его жизнь особую ноту личной причастности благодаря давним приятельским отношениям с пражским парнишкой Иржиком, часто гостившим в Годунове на «дипломатической» даче. Родители Иржика работали в чешском посольстве, а Иржик учился в хореографическом училище при Большом театре.
Знакомство с Иржиком было для него счастьем: впервые в жизни он встретил человека, который оказался не таким, как все, еще более, чем он сам. Иржик был иностранцем, а он всегда и везде чувствовал себя чужаком, изгоем — едва ли не иностранцем. Вдобавок Иржик приехал из самой Праги — а Прага была его давней, затаенной мечтой. Он столько слышал об этом древнем городе каббалистов, магов и алхимиков, столько прочел легенд, так любил книги Чапека и Гашека… Получив от знакомых на несколько дней (под залог «Фауста» в пастернаковском переводе) увесистый синий том Цветаевой, он впервые прочел и тут же списал в специальную тетрадочку «Стихи к Чехии» и «Пражского Рыцаря». После он подарил Иржику переписанные цветаевские стихи и получил взамен замечательную легенду о рыцаре Брунсвике (том самом, из стихов), защитнике Праги, приручившем двухвостого льва…
Потом Иржик окончил училище, уехал домой, и сразу обоим показалось, что они жить друг без друга не могут, и полетели через границу — туда и обратно — длинные письма. Наконец весною Иржик написал, что в сентябре предполагает вернуться в Большой на стажировку. Он ответил восторженным письмом и начал мечтать о встрече, о том, как Иржик расскажет ему: каково это — жить в стране, где можно читать стихи на площади и не угодить в милицию.
Утром 21 августа он вытаскивал из почтового ящика у калитки дедовой дачи свернутую газету и выронил наземь длинный голубой конверт с цветными полосками по краям: письмо от Иржика. И так захотелось поскорее вскрыть это письмо, что, небрежно бросив газету на столике в прихожей, не полюбопытствовав даже глянуть на первую страницу, он закрылся у себя и дрожащими от нетерпения пальцами отодрал уголок конверта…
«Я никогда больше не смогу ему написать. Во-первых — стыдно, во-вторых — письма, наверное, теперь не будут доходить. Так и ношу с собой последнее письмо Иржика, написанное и посланное до катастрофы, во внутреннем кармане куртки. И все время мысленно составляю ему ответ:
„Иржик, я твой друг по-прежнему. Иржик, я не с ними. Чем я могу тебе помочь?“
А чем я могу помочь? Страшно подумать: он идет по своему городу, по Золотой Праге, а мимо, по мостовой, грохочут гусеницами чужие танки. Господи, „чужие“… Наши! Те самые, с красными звездами на башнях. Те самые, которые в прошлом году я видел совсем близко, когда дед взял меня с собой на парад, на гостевую трибуну.
Маленьким я мечтал одно время стать танкистом, как все мальчишки, родившиеся после войны, возбужденные рассказами отцов или дедов. Все мечтали быть танкистами. Или летчиками. Какое счастье, что я — в консерватории, что не попал в армию. Ведь — „и я бы мог, как шуг…“. И я бы мог, вот что самое страшное…
И я бы мог, если б служил в армии, там оказаться — как дядя Митя, Валеркин отец…»
Отец Валерки дядя Митя, армейский разведчик, вернулся из Праги в начале сентября. Дача их в Годунове задами выходила к даче генерала О., мальчишки лазали летом друг к другу в гости через забор, а хозяйки, как водится, занимали одна у другой то — чашку муки, то — луковицу, то — стакан сахару, то — горсточку соли. Они, можно сказать, почти что дружили.
«Было самое начало сентября, золотая теплая осень. Я гостил у деда в выходные, когда Валерка примчался: папка вернулся. И тут же похвастался: отец ему ножичек швейцарский привез, такого ни у кого не было, с ножничками и с лупой.