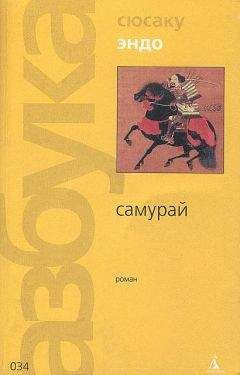Генеральская дочь - Гривнина Ирина
Дед сразу засуетился, китель нацепил и к дяде Мите пошел — расспрашивать, а я за ним увязался. Жалел потом, лучше б мне этого никогда не слышать.
Дядя Митя — рожа красная, пьяный.
Про чехов:
„Суки неблагодарные, бляди, мы с тобой, Иона, за них в сорок пятом кровь проливали, а они, бляди хуевы, с немчурой снюхались, предатели… Давай выпьем… И пусть хлопцы слушают, как мы этих блядей танками давили! А не позорь!.. А то бардаки на каждом шагу развели, я сам журнальчик видел: бабы голые вместе с мужиками, а на обложке слово какое-то написано непонятное, никак не вспомню… `нуй- дизм`, во как, и без перевода понятно, что это значит.
Такой вот нуйдизм-хуйдизм, да в братской стране, на самой нашей опасной западной границе…“
Дед слушал, кивал понимающе. А я чувствовал, что начинаю всех их ненавидеть, и его, и дядю Митю, и Валерку, который от ножичка своего говенного обалдел. Как раз тогда Валерка мне под большим секретом сказал, что решил идти в армию, чтобы потом в Школу КГБ поступать, во внешнюю разведку…»
С рокового дня — 21 августа 1968 года — была начата новая ледериновая тетрадочка. Все, что он хотел бы сказать Иржику, и все, что Иржик мог бы ему ответить, заносилось в нее. Давно навострившись выдумывать людей и события, он выдумал теперь себе Прагу, которой в жизни никогда не видал, и Иржика, которого толком не знал. Этот Иржик и эта Прага стали частью его жизни. Дневниковые записи и отвлеченные филосовские рассуждения, воспоминания и первые неуклюжие стихи — все было обращено к новому, выдуманному Иржику, которого он считал теперь своим «настоящим другом». Новая дружба имела шанс длиться вечно, ибо объект ее был недосягаемо далек, почти бесплотен, и вряд ли мог совершить нечто такое, что затмило бы светлый образ. В этом полупридуманном мире он дожил до конца сентября, когда, явившись в консерваторию, увидел на стене у деканата объявление.
«Сперва я прочел только последнюю строчку: „явка обязательна“. Куда это у них явка обязательна, лениво подумал я, что это у них случилось? Но, оказывается, случилось не у них, а у меня. Случилось комсомольское собрание, на котором всем нам полагалось присутствовать, чтобы приветствовать героический и своевременный шаг стран Варшавского договора, „оказавших братскую помощь“ Чехословакии.
Нельзя было идти на это собрание, и я решил не ходить. Они собирались, чтобы распять, втоптать в грязь мою Прагу, Иржикину Прагу…»
Он бы и не пошел, но у дверей был предусмотрительно выставлен караул, не выпускавший на улицу не только студентов, но и профессоров. Всех, оказавшихся в здании, загоняли в один из оркестровых классов, где за покрытым зеленым сукном столом сидело уже начальство: парторг, профорг, ректор…
Начальство говорило речи, потом говорили речи какие-то активные комсомольцы…
Он сдерживался, сколько мог. На речи решил не обращать внимания, стараясь не прислушиваться ко вздору, который они несли. Но вот предложили голосовать, и он понял, что физически не сможет поднять руку «за». И «против» голосовать не сможет тоже, потому что «против» будет он один, и у него тут же начнут спрашивать, почему он против, а объяснять этому быдлу, что оно совершает подлость, было выше его сил.
Он торопливо поднялся, уронив, по всегдашней своей неловкости, стул. В гробовой тишине это прозвучало, как выстрел. Все, как по команде, повернулись в его сторону, и, провожаемый их взглядами, он вышел вон и тихонько прикрыл за собою дверь. Он медленно спустился по лестнице, сонная вахтерша спросила:
«Собрание-то кончилось, што ли?»
И, не получив ответа, удивленно на него поглядела.
Домой идти не хотелось, он побрел вверх по улице, спасаясь от пронизывающего, совсем уже осеннего ветра, завернул в кафетерий, взял булочку и стакан «кофе с молоком». Только теперь он ощутил отвратительную, все усиливающуюся внутреннюю дрожь. Стакан, который он взял в руку, вдруг застучал о зубы, и никак не удавалось глотнуть обжигающей, грязно-бежевой жидкости.
С трудом удалось ему поставить стакан на липкий стол.
«Замерз, просто замерз, — утешал он себя, обхватив горячее стекло ладонями, — сейчас руки согреются, и дрожь пройдет». Но он знал, что дело не в холоде. Дело было в непоправимости случившегося. Бэлла осталась там, в зале, среди согласных, голосующих «за».
Она сидела справа, чуть впереди него, среди девчонок со своего курса, и все время, пока шло собрание, он смотрел на нее. Конечно, ей никакого дела не было до происходящего, это-то он отлично знал. Но знал еще и то, что она никогда не подчеркивала своего особого положения и возмущалась Пашкой Лепехиным, сыном замминистра, обожавшим хамить на комсомольских собраниях:
«Ну, встал он, ну, сказал, что не читал речь Брежнева на съезде, ему это, видите ли, неинтересно. И что изменилось? Только одно: вот вылетит его папочка из своего министерства и те, кто сегодня Пашке задницу лижут, вышибут его из Консы. И полетит он… Ты музыкант — вот и занимайся своей музыкой. Зачем выделяться, если вся жизнь такая? Соглашайся, молчи — все путем и будет…»
Этой удобной философии, похоже, ее обучали с младенчества. И, когда он шел к выходу из зала, когда посмотрел на Бэллу и увидел, что она чуть заметно покачала головою, он знал, что она сказала бы сейчас:
«Маленький, что ли? Больше других надо, да?»
Он понимал, что ради него она не станет рисковать ни своей будущей музыкальной карьерой, ни тем более положением отца. И понимал, что больше никогда не увидит ее.
Menuetto
Это случилось летом, после второго курса. Впервые в жизни он ехал в поезде один, совершенно самостоятельно. Солидный пассажирский поезд неторопливо полз по бесконечным рельсам к югу, останавливался в больших городах и на маленьких станциях со звонкими украинскими именами, и он покупал черешню и клубнику, свешиваясь с подножки вагона (мама запретила выходить на станциях, и он с радостью подчинялся этому запрету, потому что больше всего на свете боялся отстать от поезда). В Феодосии самостоятельность, которой он так гордился, кончилась. На вокзале встречала его тетя Вера, мамина подруга еще с довоенных, школьных лет, вызванная из Коктебеля «срочной» телеграммой. Старенький, дребезжащий автобус с разболтанными дверцами дожидался поезда вместе с тетей Верой. Набив свою голодную утробу распаренными телами бледнолицых северян, он победно загудел, окутался синим вонючим дымом и тронулся по ухабистой пыльной дороге, забирая вправо. Не прошло и часа, как они входили в просторный, прохладный татарский дом, окруженный старым, запущенным садом.
«Тетя Вера сказала, что до моря — десять минут ходьбы, но что она очень устала, все-таки два конца, да и мне сперва надо бы остыть, привести себя в порядок. Но я ее уговорил почти сразу. Просто объяснил, что никогда раньше не видел моря…
Она ничего, суматошная только. Нарисовала мне на бумажке план, как короче дойти, и написала адрес, чтоб я не заблудился на обратном пути. Дом этот не ее, каких-то шишек писательских. Она давно знакома с хозяйкой, говорит, что эта хозяйка — милая дама. Тетя Вера там живет, когда хозяев нет. Чтоб ничего не украли, наверное. Ну, да мне все равно. Их никого до конца августа не будет. Зато в столовой стоит старинный клавесин…
Но про клавесин — потом, сейчас — про море.
Сперва надо было почему-то идти вверх по тропинке, потом обогнуть холм, и тут я увидел… Это было такое что-то, про что словами я не смогу сказать, очень трудно, только музыкой можно выразить, наверное.
И я знаю, какой музыкой: море можно сыграть на органе, никакой другой инструмент не годится, потому что оно ни секунды не стоит на месте, а движется, и шумит, и сверкает, как брильянтовая мантия. Я стоял, и смотрел, и вдруг понял, что забыл дышать…»
Он немедленно сбросил с себя одежду и ринулся к воде. Это был единственный доступный ему вид спорта: плавал он, как рыба. Спасибо надо бы сказать за это дяде Мите с Валеркой. Одно лето (им с Валеркой было тогда лет по одиннадцать-двенадцать) дядя Митя провел целиком на даче, отдыхая, как он выражался, «от трудов праведных». Каждый день около полудня счастливый Валерка забегал за ним. и все вместе они торжественно шествовали «на Бездонку». так называлось большое круглое озеро в глубине леса.