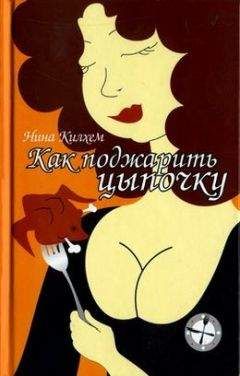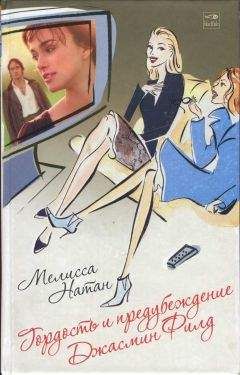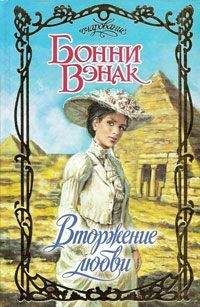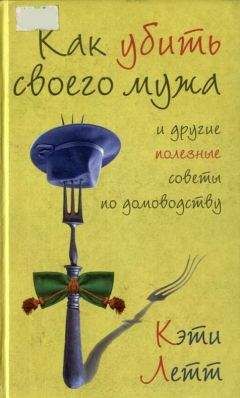Филипп Клодель - Чем пахнет жизнь
Гроза
Pluie d’orage
Стукнуть кулаком по земле, как стучат по столу. Уже так давно назревает разрыв. Шли дни за днями, вязкие от нависшего неба и свинцовой жары, исчез в дымке горизонт, обессилел ветер, нервничают животные и люди. Даже ночь не приносит прохлады, изнемогая, как и день, под шкодливыми щупальцами влажности, вольготно, точно у себя дома, расположившейся повсюду и в любой час. Открываются настежь окна – без толку. А потом вдруг, за полдень, небо на севере, в стороне Сея, как будто натягивается и скрипит. Видны вспышки, еще приглушенные, словно какой-то шепчущий апокалипсис. Внезапно темнеет. Мне вспоминаются Страстные пятницы, когда мы всматривались в тучи: как-то они помянут Распятого на Голгофе? Грохот, свет, ярость. Топор молнии обрушивается на иву у пруда. Когда только успела?! Дерево расколото надвое, трепещет, обнажив белую плоть сверху донизу, словно светлое бедро выглянуло из разорванного чулка. Снова молния, на триста метров левее, ударила в опору электропередачи. Истерические зигзаги. Эфемерный автограф артиста-мегаломана. Молодые телки на лугу возле Пуле, сбившись в кучу, кидаются всем скопом к реке, но далеко не убегают – тупо останавливаются как вкопанные на косогоре, и больше ни с места. Шелест. Нарастающий. Это дождь, он уже накрыл полосатой завесой высокий берег Рамбетана и бежит дальше поднимающимся приливом, окутывает рощицы у Большого канала, заливает поля, подбирается к нашему дому, плещет в садах за ним. Кот ныряет под плоский камень, подпирающий дверь крольчатника. Падает капля, другая, первыми приглушенными нотами, возле курятника. И вот уже главные силы – частое косое войско безжалостно рубит лепестки последних тюльпанов, рвет нежные листочки вишен, глумится над пионами, заставляя склонить сливочные головки и прибивая их к земле, усеянной миллионами крошечных, величиной с ноготь, кратеров. Первобытная сеча. Обстрел. Водопад. Вода рассекает воздух, освежая его. Пасть чудовища дышит нам в лицо жарким дыханием тропиков. Крошечные речки катят свои бурые воды по аллеям и окутанные паром моря образуются у корней малинника. Чуть-чуть знобит – и поневоле улыбнешься, вдыхая здесь, где не достанет тебя гроза, дух этой сечи: перегной, болото, торф, соки растений, сладость венчиков лилий, чьи лепестки от слез выглядят как лохмотья, шерсть потревоженных животных, хором мычащих вдали, суп из земли, взболтанный трепетом зеленой лаванды, которая запахла, раззадоренная грозой, невесть откуда взявшаяся смола… и ветер, наконец-то налетев, берет свое, перемешивает все это с последними каплями дождя и гонит к востоку, где еще тишь да гладь в этот час, вороха клочковатых туч и раскаты грома.
Рыба
Poisson
Гольян. Пескарь. Линь. Голавль. Уклейка. Подуст. Сом. Форель. Карп. Лещ. Окунь. Судак. Щука. Язь. Красноперка. Тело рыбы гибкое, гладкое, содрогающееся, точно от электрических разрядов. Вода вливается в него и мягко выгоняется слизью, оставляющей в руке рыболова запах родника и кресс-салата, свежести и сладковатой ракушки, водорослей и морского простора, даже если эта рыба плавает в пресной воде. Надо хоть раз вдохнуть этот запах, чтобы чуть-чуть приблизиться к тайне рыбалки. Вот ты сидишь на берегу – и вдруг взмывается над водой бьющееся тельце пойманной рыбы! Усмирить ее. Не слишком крепко сжимая пальцами, уложить, если нужно, на траву, отцепить как можно осторожнее тонкий металлический крючок от ее раскрытого рта. На вас смотрит круглый глаз, окаймленный золотом. Он осуждает вас, он полон укора. Блестит, как и вся рыба – драгоценный камень, да и только. Рыба – такая утонченная, изысканная в красновато-золотых бликах, в причудливых переливах зеленого, голубого и серого. Много лет я мечтал об этой встрече и об этом запахе. И все никак. Я часами сидел, так и не поймав ни одной рыбки, на берегу Мерта, Малого канала, пруда Понсе или у Горловины на Саноне: из этой большой сточной трубы вытекала кровь с боен, расположенных выше по течению, в зданиях которых теперь расквартирована пожарная часть. Густая кровь быков, лошадей и свиней, ярко-алая или бурая, текла в реку, окрашивая воду на несколько метров. Карминно-красные облака клубились, постепенно рассеиваясь в зеленоватом течении. Рыбы плавали в крови убиенных и лакомились ею. В дни больших забоев место здесь дорогого стоило, и надо было встать спозаранку, чтобы занять территорию, где закинуть удочки. Здесь-то я и поймал наконец первую плотву – красненькую, как у нас говорят. Плавники – киноварь. Гибкая чешуя. Запах водорослей и глубины. Первое чудо. Поэма влажной чешуи. Серебряная рыбка, которую я долго, с бьющимся сердцем, нюхал, как зверь обнюхивает другого зверя, без стеснения и стыда.
Мазь
Pommade
Мое детство – сплошные болезни. В другие времена из меня, наверно, получился бы очень миленький покойничек, едва крещеный и сразу же похороненный в тесноте белых могил с гипсовыми ангелочками на нашем кладбище. Я выжил благодаря успехам медицины. Знал, какой век выбрать. Я часто бываю у доктора Иоахима Мейер-Бисха: у него красивое лицо мыслителя, серьезные очки, а передние зубы чуть приподнимают верхнюю губу, как у чудесного актера Жана Буиза, с которым я незнаком и до сих пор об этом жалею. В приемной его кабинета уютно. Мне здесь нравится. Кожаные кресла липнут к седалищу. На полках только книги с непонятными названиями. Невидимое радио играет симфонии и сонаты. Его руки щупают мой лоб, живот, грудь. Он слушает сердце и смотрит горло, но никогда не трогает мои яички, не то что врач с работы отца, который проверяет, могу ли я ехать в летний лагерь. В этом возрасте очень важно, чтобы яички опустились туда, куда им положено, иначе в лагерь нельзя. Родителям возразить на это нечего. У доктора Иоахима Мейер-Бисха немецкое имя, но он совсем не страшный. Ничего общего с немцами, которые убили братьев и кузенов моего деда в 1915-м, разорили наши фермы и депортировали, загнали в газовую камеру и сожгли маминых подружек, сестер Лазарович, и всю их семью, кроме одного брата в 1942-м. Доктор одет в белый халат, застегнутый на все пуговицы, но, когда он приходит к нам домой – это если у меня высокая температура и я не могу выйти, – на нем костюм, галстук и пуловер с треугольным вырезом. Я так и вижу его ручку с золотым пером, его кожаную сумку, из которой он достает стетоскоп и бланки рецептов. Он ни добрый, ни злой. Он – Доктор. У него большая семья, которую он возит в огромном «Мерседесе». У мсье Гориуса, аптекаря, тоже есть «Мерседес», но семья у него вряд ли большая, потому что в его машине только два места. Однажды мсье Гориус предложил мне выбрать между сиропом от кашля и мазью от геморроя: на то и другое вместе у меня не хватало денег. Такую дилемму Корнелю не пришло в голову положить в основу ни одной из своих пьес, а зря: что важнее – счастье горла или спокойствие ануса? Мазь, надо полагать, была для отца. Я ушел с пустыми руками. Мама была вне себя. Мы сменили аптеку. Мазь. Само это слово уже лечит. Я люблю мази. Люблю тюбики и баночки темного стекла, в которых их держат пленницами, их жирную маслянистость, иногда чуть липковатую, их цвет бледного грима, а больше всего их запахи – эвкалипта, камфары, горчицы. Мама подходит ко мне, садится на край кровати, расстегивает мою пижаму. Берет кончиками пальцев немного мази, согревает ее и бережно, нежно втирая, размазывает по моему тощему, кожа да кости, торсу. Я сразу чувствую благодатный ожог, и острый дух леса, полного запахов смолы и ментола, разливается по комнате. И от этого аромата, от теплого укуса мази, проникающей до самых моих забитых мокротой бронхов, от ласкового присутствия мамы, от этого бездельного дня – ведь я в очередной раз не пойду в школу, смогу читать досыта, и дремать, и мечтать, и видеть маму каждую минуту в эти дневные часы, когда она обычно бывает одна, – я уже чувствую себя лучше.
Тюрьма
Prison
Тюрьма – закрытый котел, в котором томятся тела и души, мечты, терзания и муки. В ней проводят недели, месяцы, годы. В ней едят. В ней спят. Учатся. Забывают. Переживают. Разлагаются. Падают и поднимаются. Испражняются. Дрочат. Иногда даже совокупляются. В ней пытаются убить время. И все же тюрьма не чудовищна. Мы ее сотворили. Она создана по нашему образу и подобию. В сущности, она для человечества – то же, что квинтэссенция для запаха: концентрированный абсолют. Почти двенадцать лет я по несколько раз в неделю бывал в тюрьме, давал уроки. До 2000 года. С тех пор она живет в глубинах моего существа, моих чувств, да и моего разума, живет и не уходит. А я и не пытаюсь ее изгнать. Она из тех мест, что имеют свой запах: в больнице пахнет чем-то замороженным, в доме престарелых – прозрачным бульоном и недвижными телами, в спортзале – ногами, потом и пористой резиной ковриков. Вот и тюрьма – из таких. Дурак сострит: мол, в ней спертый воздух. В общем-то, так и есть. Скажем, скорее, запертый. Это состояние, по сути, полная противоположность человеческому – ведь мы по жизни кочевники, странники, скитальцы, свободные люди. Тюремный мир и сам принцип застенка порождают поведение, только им свойственное, патологии, которых нигде больше не встретишь, и специфические запахи. Все здесь притушено, приглушено, придушено. То, что за пределами тюрьмы обретает свободное устремление, за этими толстыми стенами застаивается, за высокими окнами, в тесном зарешеченном пространстве. Зажатые, приниженные, замедленные – запахи жизни в тюрьме теряют октаву. Они тускнеют, они не могут звенеть как должно. Едва попав сюда, они размываются, рассеиваются. На них давит патина старых стен, липкие, сколько их ни мой, полы, уныло облупившаяся краска, тщетно подновляемая каждую весну. Как и люди, которым эти запахи принадлежат, они больше не стремятся приодеться и прилично выглядеть. Они отрекаются от собственной природы и, смирившись, становятся однообразными. Вот что, наверно, лучше всего характеризует запах этих мест, призрачно присутствующих в нашем мире: запахи перестают быть собой и отличаться друг от друга. Они забывают себя. Сдаются. Запах тюрьмы – согбенный запах.