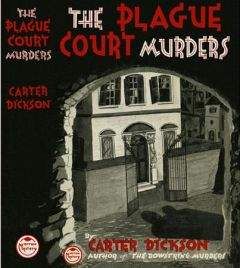Дмитрий Козлов - Я уже не боюсь
Мы договорились пообедать и выбраться снова. Как всегда.
Юля достает из рюкзака бейсболку, надевает козырьком назад. Потом следом вытаскивает плеер, дает мне один наушник, клацает кнопкой и говорит:
— Новый альбом «RHCP». Сестра вчера кассету подогнала, привезла из Франции.
Наушник дешевый, приходится надавить на него, чтобы сквозь рев машин на проспекте слышать музыку. Начинается задорный гитарный рифф, и я думаю, что папе это понравится — он постоянно слушает кассету с их альбомом «One Hot Minute».
И вот тогда-то это происходит. По-настоящему, во всей красе.
Все меняется раз и навсегда.
Я понимаю, что папе не понравится. Понравилось бы, но уже не понравится, как не понравятся и все остальные новые альбомы, новые группы и вообще все новее вчерашней ночи. Мы не будем больше сидеть на кухне и говорить с ним о том, насколько этот альбом крутой, никакой или хреновый. Мы вообще больше не поговорим.
Никогда. Нигде. Ни о чем.
Потому что его больше нет.
Я замираю и чувствую себя так, будто сердце парализовало и оно никогда больше не забьется. Тополиные «снежинки» взлетают в воздух за проносящимися машинами. У гастронома, около ларьков, на остановке и возле бочки с квасом роятся люди, и я думаю, как они вообще могут ходить, дышать, жить, если… если…
Пытаюсь думать об исторических датах, но не могу вспомнить ни одной.
Юля замечает. Выключает музыку, помогает мне сесть на бровку, прижимает к себе, и я смотрю на мир сквозь завесу ее волос, уже сухих от такой жары, но снова намокающих от моих слез. Я не могу сказать ни слова, но чувствую бесконечную благодарность. За то, что Юля со мной. За то, что я не один сейчас, когда кажется, что гул машин, голоса, шум города вокруг — это звуки, с которыми разваливается, рассыпается, рушится в темноту мир.
Я пытаюсь сказать все это Юле. Сбивчиво что-то бормочу. Слова бестолково выпадают изо рта комками, из которых никак не лепится что-то связное.
Юля кладет палец на мои губы, и я умолкаю.
— Мой папа тоже умер. Давно, — говорит она спокойно, буднично; в ее глазах отражаются разноцветными мазками летящие по асфальту автомобили.
Я вдруг понимаю, что она сказала. Осознание того, что с ней произошло то же самое (возможно, рядом с ней не было никого, чтобы это объяснить), что это вообще происходит не только со мной, что я не какой-то уникальный и особенный, похоже на ледяную волну посреди жаркой пустыни. Я едва не задыхаюсь от облегчения — потому что теперь, прожив по-настоящему первые мгновения без отца, уже не хочу быть ни уникальным, ни особенным. Хочу быть как все. Как вчера.
Юля снова целует меня. Я закрываю глаза и пытаюсь запомнить, спрятать в памяти навсегда вкус ее губ.
— Ты… Ты мне очень нравишься, — говорит она, отведя взгляд, и я понимаю, что говорить ей трудно. — Но я… я была с тобой там, в лесу, не только поэтому. Не сразу это поняла, но… Знаешь, мне кажется, что на смерть лучше всего отвечать жизнью. Чем-то таким… Настоящим, короче. От чего кровь бурлит.
Юля и раньше часто говорила о смерти. Не то чтобы она была готессой или кем-то в этом роде. Просто… Отчего-то эта тема ее притягивала.
И совсем скоро я узнаю почему.
7
Ветер вырывает из уст священника его бормотание и несет обрывки невнятных слов прочь. Над полем, покрытым свежими бетонными квадратами новых могил, к виднеющимся вдали дрожащим в раскаленном мареве многоэтажкам, похожим на камни огромного Стоунхенджа. Я не понимаю, зачем они вообще притащили сюда этого попа, — отец был ярым атеистом. Должно быть, тетя Валя настояла… Она ходит в церковь…
Тело в гробу теперь не похоже ни на Чужого, ни на отца. Скорее на восковую фигуру из музея на Подоле, куда нас как-то водили с экскурсией. Все эти Бритни Спирс, Горбачевы и Майклы Джексоны были вроде как похожи на свои прототипы, но только на первый взгляд. Присмотришься — и видишь изъяны. Вот и я смотрю на это лицо, знакомое и чужое одновременно, на этого жуткого румяного клоуна, и понимаю, что отца здесь нет. Чуть легче от того, что «здесь», и рвет изнутри от того, что «нет».
Я отделяюсь от толпы, прохожу мимо мамы, которая все также похожа на собственный призрак — бестелесный черный фантом, парящий над самой землей, держащийся за руку тети Вали, чтобы горячий ветер не унес в поле. Она почти не разговаривает и редко выходит из спальни. Не ест. Вчера попыталась, и ее вырвало. Сегодня утром сумела проглотить пару ложек бульона. Еще она складывает постиранные отцовские носки в его ящик, перевешивает рубашки в шкафу, бросает его джинсы и брюки на спинки стульев — так, как он делал, когда был жив. Я смотрю ей в глаза и не вижу ничего. Даже проблеска узнавания.
Отойдя к рядам старых, заросших высокой травой могил за ржавыми оградами, я закуриваю сигарету. Уже выкурил столько, что во рту металлический привкус и от мысли о дыме накатывают волны тошноты, но хочется еще. Может, чтобы тошнило сильнее — и вырвало наконец всей накопившейся мерзостью.
— Ты как, держишься? — слышу голос за спиной. Поворачиваюсь.
Григорий Петрович, старый папин друг. Живет в той же сталинке, где Жмен с Китайцем. Папа называл его Грегори Пек. У него короткие седые волосы, блестящие, будто обрезки стальной проволоки, и жесткое лицо, словно вырубленное из камня. Глаза окружены паутиной морщин, но взгляд живой и цепкий. Только цвет лица стал какой-то серый… Как у старой лежалой бумаги.
Я не отвечаю, и он молча хлопает меня по плечу, вытаскивая из кармана пиджака пачку «Беломора».
Грегори Пек работает то ли в СБУ, то ли в СВР. В общем, в каком-то бывшем КГБ. Раньше работал в небывшем — был сотрудником первого отдела, который на папином заводе следил за секретностью. Где-то там, в недрах огромных бетонных заводских коробок, где клепали всякие танки-пушки-ракеты, они и сдружились. Он иногда приходил к нам, когда папа превратился в Чужого, и долго с ним говорил, пытался его вразумить, пробиться сквозь спиртовой занавес, но…
Поднеся огонек спички к захрустевшей беломорине, Грегори Пек втягивает дым, выпускает его двумя струйками из ноздрей и тихо говорит:
— Ты это… приглядывай за мамой, хорошо? Ей тяжело сейчас…
— А мне легко? — спрашиваю я и вгрызаюсь в измочаленный фильтр сигареты, как зверь в добычу. В глазах вдруг снова проступает предательская муть. Ненавижу слезы.
— Ты мужчина. Так что жуй говно, проси добавки и не ной, — отвечает Грегори Пек. Ответ такой неожиданный, что мои слезы впитываются куда-то обратно в голову, и он растягивает жесткие штрихи своих губ в улыбке: — Вот видишь, уже ухмыляешься. Пойми — все кого-то теряют рано или поздно. Обычно рано. Вернее, даже всегда рано. Но чем ты моложе, тем легче это пережить, пусть тебе сейчас так и не кажется. У молодых не только кости после переломов быстрее заживают. Сечешь, о чем я?
Я киваю и прикуриваю новую сигарету от предыдущей. Окурок тру о прутья ограды чьей-то могилы и прячу в карман: не хочется здесь мусорить.
— Вижу, что сечешь. Так что уважай мать и помоги ей через эту хрень прорваться. С деньгами помогу, если что.
Грегори Пек тоже докурил, оставив пустую папиросную картонку дымиться в руке.
Ко мне подходит Юля. Берет меня за руку. Она в черном платье без рукавов, облившем ее тело, как деготь. Гроб начинают опускать вниз. Мама плачет. А я чувствую себя худшим из худших негодяев, каких носила земля: мысли целиком и полностью занимают изгибы черного Юлиного платья.
Мы сидим, свесив ноги, на разбитом парапете крыши кинотеатра. Он заброшен уже лет пять — в кассах стрип-бар «Рокки» и магазин румынской мебели, а в залах, где все мы когда-то, разинув рты, наблюдали за подвигами Шварценеггера, теперь пауки и крысы смотрят свое любимое бесконечное кино — кромешный мрак. Зато можно залазить на крышу и сидеть рядом с огромными ржавыми буквами «ЗАГРЕБ», глядя на текущую внизу реку света автомобильных фар и висящие над ней на другом берегу утесы многоэтажек, сияющих огнями окон.
Нас то ли восемь, то ли девять — Олежка Соплежуй, брат Китайца, уже мог погнать домой, а может, и лазит где-то внизу, в будке киномеханика, куда можно забраться с крыши.
Рядом со мной и Юлей, под покосившейся буквой «А», стоит кассетник Долгопрудного, из которого шарашит Эминем. Хозяин магнитофона и Алла танцуют, вытягивая руки к черному небу; их кроссовки прилипают к горячему после дневной жары рубероиду. Алла заливисто смеется.
Возле буквы «Г» Китаец, как обычно, страдает херней — отрывает от заржавленной буквы древние неоновые трубки. Чуть поодаль тусят Богдан Кадык, Шкварка, девчонка Шкварки из двести сорок третьей школы, с синими волосами, и какая-то ее подружка. Они — просто темные силуэты, с сигаретными угольками в темных руках и хрустящим битым стеклом под темными подошвами.