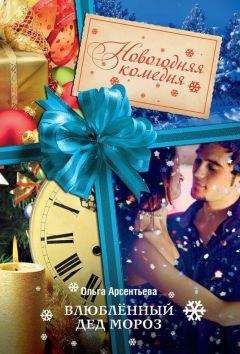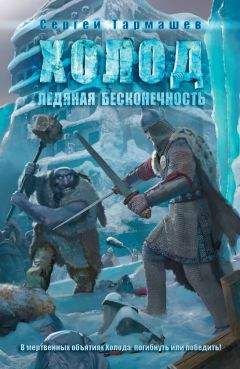Курилов Семен - Ханидо и Халерха
Друскин сел, плеснул в рюмку водки, рывком опрокинул ее в рот и, не поморщившись, решительно уставился вдоль стола.
Наступило молчание. Русские, как один, сидели потупившись, перекладывая вилки с места на место или поглаживая на столе холстину. Сорвался-таки исправник! Может, стоило кому-то другому поручить вести этот пир? А может,
Друскин прав?
И северяне уперлись глазами в стол, будто быки-олени в землю рогами.
Ужасные вещи сказал исправник. В тундре бывает жестокая месть, наказывают при людях. Но чтобы стрелять в человека как в зверя, да еще в лоб — это неслыханно. И в то же время кому неизвестно, что нынче люди почему-то ожесточились. Помощника царя можно понять: он знает, что шаманы часто толкали людей к вражде, а иногда и к резне. А что Кака негодяй, об этом все знают, хотя говорить о нем так одни боятся, другие не считают нужным: какое их дело?.. Исправник же не шибко богачей прижимает, да и вообще русские люди не такие, чтоб резать их…
Но совсем по-иному переживали случившееся голова юкагиров и хитрейший купчик Попов — Потонча.
Куриль словно воскрес. То, что у русских сорвалось какое-то важное дело, его сейчас не расстраивало: он понимал, что исправник своего добьется — силой, угрозой, принуждением. Но случилось другое, самое непредвиденное: все слышали — шаману Каке исправник хочет пулю пустить в лоб. "Не пустит, однако, — думал Куриль, — простит — и на том выиграет. Но пригрозил! А это значит, что чешутся у него руки прижать шаманов…" Для Куриля это было важнее всего на свете…
А у Потопчи — свое дело.
— Исправник, — сказал он Друскину на ухо, — стрелять Каку сразу не надо, наверно. Приставь лучше меня к нему: все буду знать, все тощщ-в-тощщ.
— Как я тебя приставлю к нему? — огрызнулся Друскин.
— А пусть Кака откроет мне Халарчу. Буду по купецким делам часто ездить — вся-а его болтовня будет на твоем ухе. Халарчу откроет — в Олерскую сам. Он на юкагиров мимо Куриля сильно влияет. Улуро тоже закрыто, считай.
Везде на дороге стоит. А я эту рубаху в карту выиграл, больше нету, холстине ходил. Дороги нету — и дела нету, и жисти нету…
— Постой! — окоротил его Друскин. — Балаболка. Чьи возишь товары? Американские? Томпсону служишь?
— Кто как приспособился. Я к Тому. А что?
— А то, что ты сукин сын. И осмелился появиться тут, чтоб я тебя коммерцией обеспечил? Ну я тебя сейчас обеспечу… Господа, — громко сказал он, и Куриль тотчас начал переводить. — Вот вам еще одно веселое дело. Вы думаете, кто возле меня отирается? Вот этот хлюст — кто? Нехристь и негодяй. Сейчас он пожаловался на Каку — дороги ему перекрыл Кака, не позволяет для американца скупать задарма пушнину. А мне он предложение сделал: за то, что он раскрыл вредную болтовню шамана, я должен разрешить ему грабить тундру.
А? Вот как крупно играет! Ну, теперь мой ход, господин Попов… Сперва скажу так: меня сюда царь прислал не за черными барышами, грабить Россию я не позволю, а грабеж в военное время буду считать разбоем…
— В-ваше… глородие…
— Молчать!.. Если бы шаман Кака не провинился так крупно, то я бы ему крест у царя выхлопотал. За то, что разбой пресек. А ты, Потонча, в солдаты пойдешь! Ать-два, ать-два — будешь шагать. — Исправник показал пальцами на столе, как он будет маршировать.
— Вашеглородие, ваше… — Потонча бросился к Курилю и по-юкагирски взмолился: — Афоня, спаси.
— Откупайся, как можешь, дурак, — пробурчал Куриль.
И Потонча грохнулся на колени перед исправником.
— Каке, врагу Христа, — крест от царя, а меня на пули, на смерть, умом слабого, дурака перед богом… Не отправляй меня на войну — старый я, ружье ваше не подниму, а тут я тебе пригожусь, крути мной задаром.
— Встань, сей момент встань! — зарычал Друскин.
— Встану… Зачем ты меня, как собаку? Я с душой к тебе ехал… — И Потонча зашептал исправнику в ухо. — Подарок привез — пятнадцать шкурок. Сам сушил, сам чистил. Когда занести?
Исправник не ответил ему. Он вдруг встал и пощелкал пальцами в воздухе, давая знать казаку, что пора одеваться.
— Я обязан, господа, вернуться к служебным делам, — сказал он. — С вами я увижусь еще завтра, с утра, и поэтому прошу никому не отлучаться. Советую также не посещать знакомых, ибо русские в этот раз рождество проводят в молитвах. Тут, в заезжем доме, все есть — еда, питье, табак, огонь… Перед уходом вот что скажу. В день рождества Христова я не могу быть жестоким и обязан проявить милость. Кака, тебе говорю: не балуй! Второго прощения не будет. Тебя, Ниникай, жду в гости… Американца Томпсона процентов на двадцать обложу пошлиной — поглядим, кто теперь к нему приспособится. А ты, Потонча, искупишь вину: хоть сытый, хоть голодный, но объездишь все стойбища, где есть шаманы и где пахнет болтовней о Черском, и скажешь, что вражду против царских людей я пресеку без пощады. Повторишь все, что я тут говорил.
— А про пулю, вашеглородие, можно сказать? — спросил Потонча, дрожа от радости, как мокрый щенок на морозе.
— Да, и обязательно. Зло надо под корень, а корень — Кака… Все! Пейте и ешьте вволю. И обдумайте, что здесь нынче случилось. Я тоже обдумаю…
Надевая с помощью казака шубу, исправник тихо сказал Курилю:
— Ты здесь шибко не пей. Немного побудь и иди к отцу Леониду. Разговор будет.
— Гок! — с великой радостью воскликнул Куриль. Уже на крыльце Друскин сказал казакам:
— Чтоб никто из ссыльных носа сюда не сунул! Приезжих напоить до беспамятства. И никто уехать не должен и шагу из этого дома не должен сделать.
ГЛАВА 2
Когда Куриль появился в доме отца Леонида, тут уже все было готово к хорошему позднему ужину. Поп вернулся из церкви и сидел, привалившись спиной к горячей печи. Исправник, расстегнув ворот мундира, ходил туда и сюда по тряпичному половику, а попадья, скрестив руки на животе, стояла в дверях — стол она уже заставила всем, чем нужно. Со священником Синявиным Афанасий Куриль был хорошо знаком. А вот попадью увидел впервые. Увидел — и оторопел.
Такой огромной и толстой женщины ему не приходилось встречать за всю свою жизнь.
Бухнувшись на колени прямо возле порога, юкагирский голова помолился на украшенный полотенцем и бумажными цветами образ матери с младенцем на руках, потом, встав, поклонился попадье и быстро снял обе кухлянки. Он прошел в жаркую полутемную горницу. Здесь в дальнем углу перед образами тихо горели свечи и жирник на тонких цепочках — лампада; свет торжественно отражался в позлащенных окладах икон, но огоньки колебались — колебались и золотые сияния — и потому казалось, что там, в углу, совершается великое, непостижимое таинство… В комнате благостно пахло горящим воском, ладаном и еще сытным печеным тестом, замешенном на коровьем масле. От всего этого у Куриля захватило дыхание. Он моментально и в который уж раз за свою жизнь представил себе, что произойдет в тундре, если там появится церковь и в жилищах засверкают иконы. К старости во сне и наяву он бредил теми светлыми днями, когда не будет слышно диких криков шаманов и люди поймут, что без бога Христа они жили не в "среднем мире", а в "нижнем" — черном и страшном.