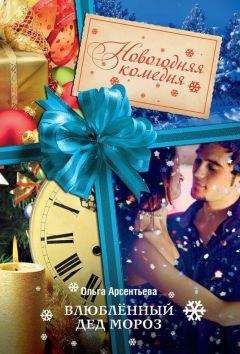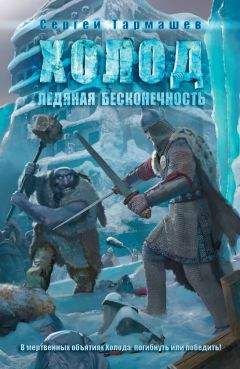Курилов Семен - Ханидо и Халерха
— Что, Афанасий, не переводишь?
— Я тут не все слова знаю, однако. — ответил Куриль и посоветовал: — Не надо говорить дальше.
— Но он вынуждает меня!
— Иносказательно надо. И очень мало. О женщинах — плохо нашим.
— Но ты сказал: крой тем же…
— Иносказательно надо, — уперся потухший Куриль. — Ниникай так говорит — не прямо.
— Провокатор твой Ниникай! — сквозь зубы сказал исправник.
— Слово такое не знаю. Ругаешь — не надо. О делах говори — лучше пойдет.
Но было поздно: двое богачей встали и молча направились к выходу, встал и третий, красноречиво ощупывая завязку штанов. Русские чиновники и богачи в замешательстве прятали глаза. И Друскин понял, что влип, что его одурачили.
"…И никто не набросился на этого чукчу, даже старики не окоротили. Выходит, поддерживали. — Друскин оборвал рассказ и пытался собраться с мыслями. — Но ведь они не знают, зачем их созвали. А потому не верят в добро, что мысли у всех одинаковые и короткие, как козьи хвосты: не потребовал бы я оленей. Но злой-то я больше потребую, если бы нужно было! Не пойму… А может, хотят бой дать — мол, мы хозяева здесь, а не вы?.."
Размышления эти сменились другими, идущими уже от чувств и чести.
Дикари оказались благородными, а он — пошляком. Но вот они сидят перед ним, эти благочестивые — косматые, желтозубые, живут у озер и рек, а сроду не мылись, едят — чавкают, как медведи… Взгляд исправника остановился на ближнем из них — чукотском богаче шамане. Кака заметил взгляд — и немедленно стал дергать плечами и строить рожи. Половина лица его — в татуировке, глаз на этой же стороне с желтым бельмом, две грязные косы, как у старой спившейся бабы, а в волосах вши, конечно. Дышит это чучело — и из-под воротника вырывается вонь… Омерзение насквозь прострелило Друскина. Как он ненавидел всех их!..
Но надо было спасать положение. Он встал и направился к своим богачам.
Ему тут же уступили место, и он сел напротив чукотского богача Тинальгина и юкагирского — Петрдэ. Сзади него уже стоял Потонча с полотенцем на шее.
Потащил сюда же табуретку и очень грустный Куриль.
— Русские говорят: лиха беда — начало, — сказал старикам Друскин. — Но есть и еще примета: если дружба началась с неприятности, то это будет крепкая дружба… Мы не понимаем друг друга. И тут Ниникай прав — обычаи, порядки, привычки много таят неприятностей. Но надо же как-то начать! Никаких плохих намерений у нас нет, ей-богу. Вместе живем — почему не дружить?..
Исправник знал, что Куриль переводит сейчас очень точно — он тоже переживает, но в ответ — ни слова, ни кивка, ни движения бровей или глаз, ничего, что свидетельствовало бы о том, что его понимают или совсем не понимают. И он озадаченно замолчал. А дело было в том, что оба старика, как и их соседи, совершенно обомлели от близости царского помощника. Начальник уездной полиции был при полном параде — в мундире, который ему приходилось надевать раз в год, а то и реже, в ремнях и с наганом. Они не знали, куда смотреть — в одни светлые, втягивающие глаза с тяжело обвисшей под ними кожей, или на все красноватое, словно от натуги, лицо со стрелками усов и ровно обстриженной, подскобленной бородой, или на поразительно ладный пиджак с блестящими пуговками и украшениями на плечах, с твердым стоячим воротником, который, наверно, для того так сделан, чтобы все знали, что он никому не должен кланяться. А еще притягивал взгляд кожаный коробок на левом боку — неужели и впрямь у исправника есть "маленькое ружье", которое можно спрятать в кулак?.. Этот властный человек из нездешнего мира, конечно, понимает, что пир начался плохо, не весело, не по-дружески, и что бы сейчас ни говорил он, для одних, ошарашенных близостью к нему, это вообще не имело значения, а для остальных было пустыми обманчивыми словами: он укушен и зол и правду скажет лишь завтра, когда все обдумает со своими помощниками…
Никто с исправником в разговор не вступал — и уже ничего ему не оставалось, как спросить:
— …Но, может быть, у кого есть ко мне личные дела — просьбы, жалобы, советы? Давайте, скажите, а то я скоро уйду.
Были у тундровиков и жалобы, и просьбы, но кто ж это станет высказывать их, когда хозяин главное утаил? И тогда раздался голос Потончи — Васьки Попова:
— Вашеглородие, э-э… мне нынче далеко, шибко далеко ездить приходится — по тайге, Индигирке был, все тундра объехал.
— Ну и что?
— Обратно о русском шамане болтают. Чери [86], говорят, землю веревкой мерил; духом стал — следы свои видит, что хочет делает, наших духов обои лопатки кладет.
— Так… — повернулся к Потонче Друскин. — И от кого ж эти слухи идут?
— От Каки! Барыш Кака получает, он и пускает слухи. Его келе [87] защищают людей от духа Чери, келе шибко трудно, шаману трудно — большую плату давай.
— Та-ак… — выпрямил спину исправник и обвел всех гостей каким-то иным, кажется, свирепым взглядом. — Ты, Афанасий, все перевел точно?
— Совсем точно! — воскликнул вдруг оживший Куриль.
— Тогда так же, точно и внятно переводи меня… Господа гости! Что же это происходит такое? Мы к вам — с дружбой, чтоб и вам была польза, и нам, а среди вас есть люди, которые в народе вражду против нас разжигают. Значит, царь воюет, русские люди кровь льют, а за спиной царя-защитника влиятельный духовник вредит ему? А ну, Кака, ответь: так это или нет?
Но шаман Кака и не собирался отвечать. Он быстро махал перед своим лицом руками, будто ловил рассвирепевших комаров, и подпрыгивал на табуретке — шаманил.
— Не отвечаешь. Потонча, стало быть, правду сказал?.. Не знаю, как у вас называется это и что вы с таким человеком делаете, но мы за это в военное время расстреливаем!.. Вот крест святой. — Исправник повернулся к иконе и перекрестился. — Я собирался говорить вам только хорошие слова. Но раз дело такое, то буду говорить другим языком. Я тебе, Кака, пулю влеплю в лоб! Пулю. Я не потерплю…
Друскин встал и зашагал к своему месту. Побежали за ним и Куриль с Потончей.
— Объясни господам, Афанасий: дух русского человека летит к богу. И потому он не может гоняться по тундре за шаманскими духами. Это глупая и злая брехня. И скажи еще: не был Черский шаманом, не был злым человеком, а тундру мерил по приказу царя. Имя господина Черского неприкосновенно! И за всякую прочую брехню я буду привозить сюда, в острог, сечь шомполами и сажать в тюрьму. Я не потерплю…
Друскин сел, плеснул в рюмку водки, рывком опрокинул ее в рот и, не поморщившись, решительно уставился вдоль стола.
Наступило молчание. Русские, как один, сидели потупившись, перекладывая вилки с места на место или поглаживая на столе холстину. Сорвался-таки исправник! Может, стоило кому-то другому поручить вести этот пир? А может,