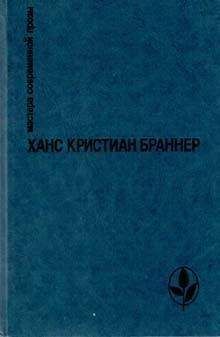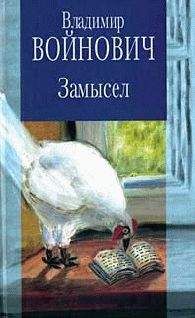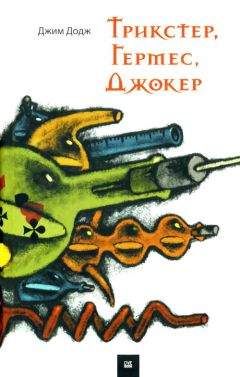Джим Додж - Дождь на реке. Избранные стихотворения и миниатюры
Находка любви
Перевод Шаши Мартыновой
После взрыва в Оклахома-сити
собак-спасателей
свезли самолетами вместе с кинологами
со всех Штатов.
Но когда собаки не смогли найти
ни одного выжившего,
они впали в уныние,
и после очередного дня без единого
живого спасенного,
даже если собаки искали,
все было без особого толку.
И тогда кинологи принялись по очереди
прятаться в руинах,
чтобы собаки нашли их живыми.
Поток
Перевод Шаши Мартыновой
Подчиняясь безумному равновесию
в динамо-сердечнике любого теплообмена
прохладный прибрежный воздух,
втянутый с Тихого океана подымающимся жаром Долины,
течет на сушу через гряду,
и поднимается ветер.
А в саду
колеблется стебель подсолнуха,
клонит голову с семенами,
того и гляди рассыплет.
Спасибо за танец
Перевод Шаши Мартыновой
Ах как ты танцуешь пони.
Твист — вообще ништяк.
Весь дрожу, когда поешь ты
«Хочешь, я вот так?»
Обожаю я твой шимми
И твое «о, йе-е»,
Но живу я твоей румбой
В кружевном белье.
Камень
Перевод Шаши Мартыновой
Из двух великих мастеров,
Говорят, один умер безмятежно,
С легкой улыбкой на лице;
Второй вопил истошно,
В ужасе от смерти.
Никаких выводов тут быть не может.
Камень летит
До самой земли.
Женщина в комнате, набитой поролоновыми числами
Перевод Шаши Мартыновой
Женщина сидит на стуле с прямой спинкой
в комнате, набитой поролоновыми числами,
которые движутся, словно молекулы
у абсолютного нуля. Медленнее,
чем в замедленной съемке, они
стукаются о стены квадратной комнаты,
отскакивают без всякого порядка
бьются о другую стену, потолок, пол или о женщину
и отлетают как попало
снова. Бесконечно.
Это не больно.
Цифры от нуля до девяти,
размером с пончик,
сделаны из поролона
и движутся так медленно,
что от них легко уворачиваться.
Женщина сидит на стуле посреди комнаты
и не уклоняется от ударов.
Давно уж позади слезы,
мольбы, смех, молитвы —
и ныне она преисполнена
могучей решимости,
превыше любых вообразимых возможностей.
Она сидит.
Без видимого выхода.
Без различимого надзирателя.
Без имени.
Повод жить
Перевод Максима Немцова
Летом 67-го мне было 22, сторожил жилье моего брата на Джи-стрит в Аркате, впервые серьезно увлекся горячкой и бореньями сочинительства стихов, был так нищ, что куличика песочного позволить себе не мог. Но в тот день домовладелец нанял мои праздные руки помочь ему разгрузить мебельный фургон пожиток его недавно почившей тетушки, заплатил мне десятку, и я шел через Джи-стрит к «Сэйфуэю», где сейчас «Уайлдберриз», деньги жгли мне руку — хватит, если расписать потуже рацион, на неделю спагетти, — и, помню, хохотал: неделю питаться пастой всяко лучше печально известных Тако для Голодающего Поэта от дружка моего Фунта (кружок копченой колбасы на холодной тортилье, свернуть и жевать), — хохотал и хлопал десяткой, прикалывался над Фунтом, перешел парковку — и тут обнаружил Джули, голышом в лесу, она пела на языке, которого я никогда не слышал, — Джули с кривым крестиком, который она выколола себе между пупком и каштановыми волосами на лобке тупой английской булавкой и тушью за ванной шторкой в Женском Исправдоме: ушло на это два часа, но монашки, рассказывала она, не лезли — боялись увидеть ее голой, да и я, сказать вам правду, боялся, но страху этому не уступил, чему и рад, поскольку и через 30 лет губы мне по-прежнему жжет после того, как я поцеловал этот крестик, когда мы доели спагетти, что я приготовил, и ту ночь я запомню навеки — ведь тогда я впервые сообразил, что деньги, еда и поэзия — образы жизни, а не поводы к ней.
Поскреб
Перевод Максима Немцова
Гонишь спертый «т-бёрд» 81 года с откидным верхом
по пустыне
закиданной звездами летней ночью,
крышу опустил, песенки погромче сделал —
«Стоунз», Дилан, Старина Вэн, —
полфунта сокрушительной травы на сиденье
между тобой и смешливой рыжеватой блондинкой
с ногами отсюда до Небес,
которая застопила тебя на выезде из Барстоу,
бросив там обсоса-мужа
да и кучу девичьих грез заодно, —
хотя понимает:
кое-какой невинности мы не теряем никогда,
и если вам с ней по пути,
то ей всегда хотелось
выйти голой на балкон третьего этажа
во Французском квартале во время Марди-Гра,
чтоб только ощутить на теле ночь, —
ну и да, тут и близко не пахнет любовью,
но иногда поскреб — и уже хватит.
Пожива
Перевод Шаши Мартыновой
Любовь — пожива упоенья.
Дом из досок, собранных
на развалинах танцзала
на ручье Остин, еще с тех времен,
когда Казадеро был курортом.
Собрано, свалено в кучу, утащено;
старые квадратные гвозди выдернули,
загнали новые.
Терпеливо, пылко, по мерке, поистине.
Дом начался на лапе монтировки,
закончился дранками внахлест,
прибитыми накрепко —
против адских февральских ветров
и на черный день увлеченного бегства от всех.
Дом немал — на затворничество хватит,
крепок — свет держит,
крыша проконопачена по всем швам,
а кленовый пол зашпунтован и
уже гладко затерт
тысячей полуночных вальсов,
со времен Весны и полной луны,
когда танцоры словно скользили по воздуху,
кавалеры нервно-прекрасны,
дамы — с цветами в локонах.
Пожива из города-призрака, выстроена с нуля.
Строили верой, потом, заботливо.
Прислушивались к дереву чутко — аж слышно,
как смех танцоров плывет вниз по теченью
и смущает выдр и филинов.
Строили из радостей, что не избываются.
Строили, извлекая подлинность.
Полировкой — не захватом.
Гранением бриллианта —
не воровством алмазов.
По мерке, прямо, истинно.
Дом на самом конце гряды.
Бриллиант ума танцоров.
Изумительная пустота лунного света,
заливающая бальный пол.
Эпиталама Виктории
Перевод Шаши Мартыновой
ПО СЛУЧАЮ НАШЕЙ СВАДЬБЫ, 7 ОКТЯБРЯ 1994 ГОДА
Касаюсь твоей щеки,
а где-то умирает телеолог —
вроде как от сердечного приступа, в мотеле Фресно,
девятый на этой неделе,
и следователь подмечает сходства:
все мужчины за сорок;
имена у всех начинаются с буквы Д;
все только в бледно-голубых трусах из «Мервина»,
размер — «средний»;
у всех одна сомнительная склонность к точкам с запятой
в страдальческих стихах о детстве,
что валяются, недописанные, на столах
из щербатой «формайки».
И все — лишь когда я касаюсь твоей щеки.
Стоит мне коснуться шеи твоей
(О Иисусе, милый и трепетный, да и Будда, сияюще тающий),
и каждого твидового умника,
что ошибочно принимает зубодробильный словарный
запас за знание,
и каждого школьного учителя, что врал ученикам, —
всех оглоушивает посреди ночи;
и все политики в Западном полушарии
падают на колени и молят о прощении;
и последний практикующий экзистенциалист
после многих лет размышлений над внутренней
сущностью яблока
наконец его съедает.
И от этого принимаюсь тебя целовать
(Ах, лунный бред; о нескончаемая алмазная
нова солнца),
и когда соприкасаются наши губы,
каждая птица в полете складывает крылья и скользит,
и каждая птица на насесте, и всякое дитя нерожденное
мечтают повернуться пузиком к солнцу,
а Северное побережье захлестывает
двухнедельными ливнями,
покуда кто-то не вскочит и не закричит:
«Нет радужнее радужной форели», —
и не спрыгнет с моста Хиоучи в бурлящую Смит,
а старуха в штанах из оленьей кожи
и ковбойских сапогах
не бросит перья скопы туда, куда он упал, напевая:
«Отнеси его домой, Матушка, отнеси его домой».
Пока же поцелуй наш длится
на балконе Музея Будущего,
я чувствую, как мед бурлит в моих чреслах
(о густота златого яства! ах везучие пчелы!),
и всякое дерево на 500 миль окрест зеленеет ярче,
и шишки раскрываются, стручки трескаются
и высыпаются,
побеги слив кланяются грядущей буре,
и величественная древняя сахарная сосна содрогается
до корней —
и тут балкон отрывается
и мы обречены, по-прежнему в объятиях друг друга,
обречены…
И нет, то не веселая возня средь лютиков,
но 30 лет, более-менее вместе,
давали — хватали, били — бежали, зудело — чесали,
всенощных дальнобоев, что бросали нас в канавы
грязным брюхом кверху,
и мы вручали живот свой богам в небесах,
укореняясь меж тем в земле, —
готов сказать, что мы все еще обречены,
обречены на любовь.
Всё на месте