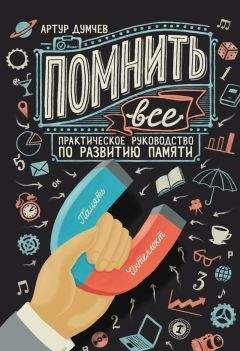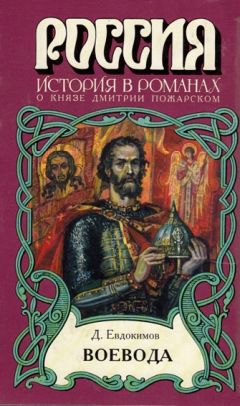Николай Евдокимов - У памяти свои законы
Бабка зыркнула глазами по сторонам, погрозила кулачком и отвернулась.
В вагон вошел мужичок в шинели, на деревянной ноге, весело крикнул:
— Дорогие братья и сестры, войдите в мое положение! Все я могу, что схотите, одного не могу — бросить пить. Стыдно мне перед вами, дорогие братья и сестры, плохой я человек, алкоголик несчастный, изверг рода человеческого. Не презирайте меня, поскольку я сам себя презираю, а подайте бедному солдатику-пропойце на опохмелку.
Все засмеялись и дружно стали бросать ему в кепку деньги. Фролов дал ему мелочь, не считая. На какой-то остановке в вагон ввалилась ватага ребятишек — грязные, оборванные, и возле них женщина с потерявшим возраст лицом — то ли молода она, то ли уже в годах, не поймешь. Сказала:
— Люди добрые, помогите погорельцам, — и пустила детей собирать по вагону копеечки, сама же присела в проходе на мешок, аккурат у фроловской скамьи, вздохнула:— Вот и едем, вот и едем, а когда еще доедем.
— Далеко ли? — спросила старуха.
— Еще далече. На Волгу-матушку. В город Чебоксары.
— Это что еще за город такой мудреный?
— Чувашский город, — пояснила она, — мы не русские, мы чуваши. На белорусской земле жили, сиротами остались, от Гитлера проклятого натерпелись, а тут вот и новое горюшко изведали: погорели...
Ребята принесли в потных ладонях деньги, отдали ей. Она увязала их в платок, спрятала под платье, где-то меж высоких своих грудей.
— Батюшки родимые, — вдруг вскрикнула она, — а Сашенька где ж? Ой, Сашенька пропал...
— Да и не пропал он вовсе, — сказала девочка лет восьми с хитреньким личиком. — Вон он в тамбуре, папиросу курит.
И действительно: в тамбуре тоненький, желтоголовый, как подсолнух, мальчишка тянул папиросу. Женщина бросилась к нему, вырвала изо рта папиросу, впихнула за шиворот в вагон. Из-за мешка, на котором она только что сидела, высунулся мужичок с ноготок. На маленькой, с кулачок, его головенке болталась огромная кепка. Из носа текла длинная белая струйка. Мужичок утер ладонью эту струйку, сказал ворчливо:
— Ябеда ты, Татка. Я вот сказу, как ты с Колькой селовалась.
Вокруг засмеялись. Фролов спросил:
— Сколько их там у тебя?
— Мой-то один, — ответила женщина. — Мой вот он!
— Угу, это я мамкин, — сказал мужичок с ноготок,
— А этим я тетка, сестры моей детишки, сироты. Да и наш на войне сгинул. Нету у нас никого на всем свете, одинокие.
Фролов вспомнил про хлеб, про шоколад, замотанные в газету, размотал сверток, разделил поровну. И женщине тоже дал долечку шоколадную. Она не стала есть, увернула в бумажку.
Наконец Фролову подошло время выходить. В проходе вдруг стало тесно, колготно, все задвигались, зашумели: объявились контролеры, искали безбилетников. Фролов сунул им свой билет, пролез в тамбур и задохнулся: в тамбуре соседнего вагона сквозь дыру в двери он увидел Настю. Она тоже увидела его, отвернулась и стала протискиваться в сторону от фроловских глаз.
Поезд медленно полз мимо знакомых изб, мимо мест, с которыми Фролов не то чтобы породнился, но к которым привык. Вот промелькнул Настин дом (там во дворе болталась на веревке, как флаг, синяя какая-то тряпка), промелькнул и исчез, а Фролов уже вспоминал день своего приезда в поселок, вспоминал, как из такого же тесного тамбура глядел на этот дом, как прыгнул на ходу, царапая лицо о жесткую траву, прыгнул, чтобы не расставаться со своей мечтой. Он вспомнил это, и ему стало одиноко, тревожно от неотвратимой мысли, что хил он душой, что не хватит у него ни сил, ни желания отлепиться от той, которую посчитал своею жар-птицей. Ум ему говорит одно: «Отлепись, парнище, не по тебе эта мамзель!» — а сердце вещает иное, оно млеет, как кусок сахара в кипятке.
Нет, Фролов не считал себя виноватым перед Настей, но все же, увидев, как, одинокая, обиженная, слишком уж гордая, она торопливо пошла от станции, будто спешила поскорее укрыться от фроловских глаз, он не то чтобы ощутил вину перед нею, но снова пожалел ее. И наверно, увязался бы вслед. Но, слава богу, не увязался по одной случайности, тем самым благодаря этой случайности невольно показал твердость характера, которой в нем, в общем-то, сейчас не было.
А случайность состояла в том, что увидел, как контролеры высаживают из вагона всю компанию, направляющуюся в чувашский город Чебоксары. Ребятишки один за другим покорно вываливались на перрон; видимо, уже привыкли к такой процедуре, не плакали, не сердились, а даже смеялись, будто играли в веселую игру. Это контролеры сердились — два мужика в черных шинелях. А чего, собственно, сердились, и сами небось не знали. Последним вывалился из тамбура мужичок с ноготок, и тут же загудел паровоз, поезд дернулся, залязгал буферами и поехал своей дорогой, дымя черным дымом, как на детских рисунках.
— Привет! — сказал Фролов. — Приехали?
— Угу, — ответил мужичок с ноготок и залихватски плюнул через плечо.
— Ловко, — похвалил Фролов. — Долго учился?
— Угу.
— А меня научишь?
— Угу.
— Звать-то как?
— Кого? — спросил мужичок с ноготок.
— Тебя.
— Меня? А меня — Сенха.
— Как?
— Сенха.
— Вон оно как! Хорошее имя. Значит, будем знакомы, Сенька?
— Не. Сенха. А не Сенка.
— Запутал ты меня. Женька, что ли?
— Угу. — Женька засунул мизинец, весь, сколько возможно, в нос. — А ее — Татка. Татка-лопатка, сопливая сопатка!
— Научись сначала говорить, — сказала Татка. — Вот я скажу, как ты пятак утаил.
— Я тебе сказу! — Женька погрозил ей кулачком.
Фролов увидел, как устраивает под навесом мешок их тетка, вспомнил, что до завтрашнего утра уже не будет никакого поезда, и в голову ему пришла счастливая мысль позвать их всех к себе. Пусть отдохнут, обмоются, пусть ночуют, место всем найдется. И им будет хорошо, и ему, Фролову, неплохо: отвлечется от своей тоски. То, что это была мысль счастливая, Фролов, конечно, не сразу понял, а только потом, позже, ночью понял.
Когда он привел их к себе, уже сумерки спускались, а пока ужинали (Фролов открыл последнюю банку свиной тушенки, спрятанную про запас), пока умывались да стелились, и совсем наступила темнота. Он уложил кого куда: кого к бабке, на ее дырявые перины, кого на печь, кого на свою постель, а сам улегся на полу, по-солдатски: на шинельку, шинелькой же прикрывшись, шинельку под голову положив.
Спал Фролов, по обыкновению, крепко, не просыпаясь, а проснулся на раннем рассвете и лежал в полутьме, в полудреме, слушая, как дышат, посапывают его гости.
С кровати сполз Женька, шатаясь, не открывая глаз, держась за стену, побрел к выходу. Он поскуливал тихо, будто щенок: томила малая нужда. Фролов обхватил его за худые, хрупкие плечи и вывел на крыльцо.
Женька писал, а Фролов поддерживал его, чтоб не упал в полусне. Струйка, которую испускал из себя Женька, ударялась обо что-то металлическое — о старую лопату, наверно, — и звенела тихо и нежно, как пуля в полете.
— Ну, все? — спросил Фролов, не услышав более звона струи.
Женька простонал что-то в ответ и привалился к Фролову теплым, разомлевшим тельцем. Фролов поднял его, понес в избу. Женька лежал на руках Фролова, запрокинув голову; нога его свисала и болталась. Пахло от Женьки потом, теплом и еще чем-то — то ли молоком, то ли хлебом или нагретой землей, а может, деревом, раскрывшим первые листья. Фролов не мог понять, чем это так хорошо пахнет от Женьки, только чувствовал и знал, что чем-то первозданным, святым. Он поцеловал маленькое, теплое, святое Женькино тельце, в шейку поцеловал и уложил его в постель: пусть досматривает сны.
А сам вышел на крыльцо и сел там, привалившись к двери, глядя на светлеющее небо. Вот тут-то и подумал Фролов, что из всех счастливых мыслей, которые когда-либо настигали его, самой счастливой была мысль позвать к себе этих ребятишек.
Вообще время от времени надо прикасаться к чему-то святому, к чему-то незащищенному, беспомощному. И не только для того, чтобы почувствовать свою слабость, но и для того, чтобы вспомнить о собственной силе. Ощущая свою слабость, человек добреет, а доброта — сила сердца.
Так, сидя на крыльце, привалившись к двери, Фролов подремал немного, очнулся от петушиного крика, закурил, стал слушать далекие паровозные гудки. Вот странность какая: по всей окружности на пятьдесят, а то и более километров не было ночью никаких паровозов, а гудки все равно откуда-то неслись и томили своим зовом. Железная дорога, даже пустая, издавала привычные звуки и жила, лишенная жизни. Этот таинственный предрассветный зов железной дороги, рождающийся неизвестно откуда, так, из ничего, из пустоты, был особенно завлекателен и призывен.
Через несколько часов, в десять тридцать по расписанию, примчится настоящий поезд, увезет фроловских гостей, и дым над паровозом станет похож на траурный черный флаг. Они уедут, а он, Фролов, останется тут вымаливать Настину любовь. И по-прежнему будет жить в одиночестве, в непризнании, необласканным, неухоженным. Нет, все ж таки нельзя, чтобы человек держал на привязи другого, как собаку, без всякой надобности! Неверно в этом отношении устроен мир. Может, Фролову хочется тоже уехать куда-нибудь, но он сидит в этом поселке и ждет, все ждет чего-то. Будто чуда. А чудес не бывает.