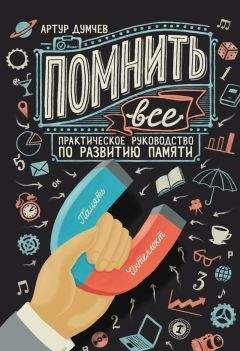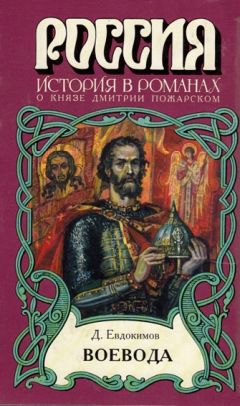Николай Евдокимов - У памяти свои законы
— Да, замечательная, — подтвердил Фролов.
— А как фамилия художника, знаешь? — спросила Настя.
Фролов знал фамилию художника, но, чтобы доставить Насте приятное, ответил, что не имеет понятия.
— Шишкин! — радостно сообщила Настя.
— Точно! — сказал Фролов. — Вспомнил! У этого художника много про природу.
— Люблю про природу, — сказала Настя. — На рынке как-то продавал один про природу: речка, кувшинки. И рама красивая. Я б купила, да дорого просил.
— За красоту не жалко! Деньги, ведь они что? Голуби, улетят, а красота останется.
— Ага! Я никогда за красоту не жалею. Нельзя же в убогости жить. Коврик купила, знаешь, такой вышитый, заграничный: оправа, значит, олени бегут, слева — замок на горе стоит, а сзади — небо с птицами. Красота, ну не сказать!
— У немцев такие ковры в каждом доме навешаны, — сказал Фролов. — Веришь ли, в спальне, в прихожей, а то и на пол ложат.
— Такую прелесть на пол? — удивилась Настя.
— А им что? Богато живут. У них, понимаешь, что главное? Внешность. Насчет внешнего не придерешься — шик, блеск! Удивление берет! Аккуратненько, чистенько, надраено, выскоблено. А вот с внутренним содержанием плоховато, сплошной компот, мозги набекрень! Это ж надо, как Гитлер их облапошил со своим фашизмом...
Они вели беседу, радуясь, что разговор тек легко и без принуждения, не глупый какой-нибудь, а с умственным уклоном. Фролов говорил, а сам любовался Настей, ее улыбкой, ее мизинчиком, который она оттопыривала, когда кушала, словно настоящая городская женщина. Он был счастлив, что сидит возле своей жар-птицы, ощущает благосклонность в ее взоре, смотрит, как она жует шоколадку. Впервые за все время их знакомства в Настиных глазах проснулся интерес к нему. А ощущение приниженности, какое Фролов испытывал обычно возле нее, на этот раз не посещало его, наоборот, он даже чувствовал некое превосходство, ибо видел полмира, полземли.
Он разлил остатки водки, сказал:
— Насть?
— Ну?
— Сегодня ты мне очень нравишься. А то одна печаль у тебя на уме. Вроде жизни не радуешься.
— Опять ты за свое, — сказала Настя. — Никакой печали нет у меня. А жизни чего радоваться? Тебе, может, весело жить, а мне — не очень. Смыслу нет в такой жизни.
— Как так нету? — удивился Фролов.
— А так, нету, и все! Зачем люди суетятся, будто муравьи, ежели в один распрекрасный день война все изничтожит?
Фролов опечалился.
— Напридумала ты все. Никакой войны больше не будет, эта последняя была. А ежели и будет, так что ж, сидеть, дрожать от страха? Ну ее! Ерундовина! Давай лучше выпьем.
— Давай! — без колебаний согласилась Настя.
Они выпили, посмотрели друг на друга. Фролов расхрабрился, сказал:
— Я, Насть, на следующей неделе снова сюда вернусь. Вот вместе бы, а? Опять посидели бы?
— Ишь какой! — кокетливо сказала она. — Понравилось?
— Угу, — признался он. — Ну как?
— Видно будет... Забалуешь еще тебя... А может, мне наладиться балансовый отчет свезти?
— Ага, наладься. Делов у меня, можно сказать, никаких. Выпишу кровельное железо, и целый день гуляй до упаду. Ну как?
— Я еще погляжу, как вы себя вести будете. — Настя погрозила ему пальчиком и засмеялась. Она так на него посмотрела, что у Фролова на миг дыхание сперло от радости. Она была красива, он любил ее, как никогда, неземной любовью любил. Она засмеялась, и он засмеялся, глупея от восторга. И позвал официанта, велел принести плитку шоколада «Золотой ярлык».
— Серафим!
— Ага.
— Я к тебе просьбу имею. Исполнишь?
— Конечно, все, что захочешь, — сказал он.
— У нас крыша сгнила, вся как есть оборжавела. Дожди начнутся, зальет. Ты про железо помянул. Мне бы листа два завез, а?
Фролов отвел глаза, он удивился такой просьбе.
— Ты это взаправду? — кисло спросил он.
— Ну да, взаправду, — ответила Настя с радостным простодушием, которое всегда обезволивало Фролова. — Весной знаешь сколько натекло? Дед залатал, да надолго ль его залаты? Листа два, нам больше и не надо. Ну, завезешь?
Фролов очень хотел ей угодить. Всей душой он стремился ей угодить, чтобы упрочить начавшееся между ними согласие. Однако он не мог этого сделать даже ради ее любви.
— Не могу, — виновато сказал он. — Было б мое, с пребольшим удовольствием. А так — нет, не могу. Извини.
Она смотрела на него с искренним удивлением, не понимая, шутит он или нет.
— Неужто пожалел? А сказал — что пожелаю,
— Не мое ж, пойми.
Но она не поняла.
— А говоришь «люблю», — сказала она почти с презрением. — Все вы на одну колодку. В словах ваша любовь. А еще желал, чтоб и я тебя полюбила.
— Разве ж в любви главное — корысть? — с тоской спросил Фролов. — Уж коли корысть объявилась, какая тут, понимаешь, любовь. В жизни я ничего чужого не уворовал.
— Какое такое тут воровство? Два листа, а разговору... Не хочешь, так и скажи. По-твоему рассуждать, так и я воровка. Намедни ведерко угля из бани домой снесла. Когда надо, ношу, по надобности. — Она смотрела на него с превосходством, веря в неотразимость своих доводов. — Что ж, выходит, я воровка?
Она засмеялась с вызовом. Но Фролов не принял ее смех, нахмурился, посопел и сказал тихо:
— Выходит, что так...
Настя не ждала этого, она была убеждена в своей правоте. Как же иначе жить, ведь такова жизнь, и иначе не проживешь. Фролов словно ударил ее. Она покраснела, слезы выступили на глазах. Сидела, моргала, испуганно и жалко смотря на Фролова.
— Спасибочко! — наконец воскликнула она. — Век будем помнить ваше угощение, не забудем. Поищите себе чистенькую, не воровку!
И гордой походкой направилась к выходу. Возможно, у нее была мысль, что Фролов окликнет ее, ибо при таком сильном возмущении она немножко медленно шла. Но Фролов, хотя ему и очень было ее жалко, не окликнул.
Он заказал еще сто пятьдесят граммов водки. Опрокинул их одним дыхом, собрал со стола остатки хлеба, конфеты, завернул все в газету и пошел на улицу, внешне, для всех посторонних, улыбаясь, а внутренне страдая и плача как дитя.
Отчего он плакал внутренне? Не оттого, что пьян был или жалел, что обидел Настю. Нет, не только поэтому. Он оттого внутренне плакал и страдал, что вдруг сделал для себя открытие.
Боже ж ты мой, подумал Фролов, а ведь нету никаких жар-птиц! Туман! Люди навыдумывали жар-птиц себе в утешение и для успокоения малых детишек. Нету! Обман зрения, туманность, мечта, и боле ничего! Нельзя ведь жить с порожним сердцем, вот и придумали отвлечение, натолкали в душу, будто в пустую торбу, разных игрушек. Кто что: один — бабу, другой — деньги, третий — власть, хоть чуток, а возвыситься над знакомым, А главное-то не это. Не это главное — не богатство, не власть, не баба, главное-то ведь в другом. Жар-птица улететь может, а главное всегда с человеком останется...
Но что такое главное, в чем оно, Фролов не знал, он знал только, что в другом, не в ублажении себя…
Настю Фролов не решился разыскивать, он даже не знал, поездом она поехала или ухватила на бетонке попутную машину.
Он ехал поездом. Народу было тьма. Поначалу все бросились расхватывать места, расталкивая друг друга, детишек мяли, ругались, а потом, когда поезд тронулся, утолклись, словно крупа в горшке: было вроде с верхом, а растрясло — и уместилось, можно еще досыпать.
Душно было, хоть и сквознячок устроили и окошки пооткрывали. Воздух постепенно стал густеть, и скоро уж ядрено запахло, как в солдатском блиндаже. Фролов никогда не брезговал этим запахом, живой ведь запах, человеком пахло, а сейчас тем более не обращал ни на что внимания: уж очень не по себе ему было от ссоры с Настей. И печально, и горько, и обидно. Он жалел себя, свою столь неудачную в любви судьбу, но и Настю тоже жалел, рисуя в воображении, как она горюет сейчас в одиночестве.
Вагон стучал колесами, гудел паровоз, мелькали телеграфные провода — долгой, длинной казалась Фролову эта не такая уж дальняя трехчасовая дорога. Он думал свои печальные мысли, слушая и не слушая разговоры соседей, видя и не видя все, что происходит в вагоне.
Рядом с ним сидел дед с бороденкой, а напротив — бабка. Оба сухонькие, оба крепенькие, как прутья с предзимней осинки, гни — не уломаешь. Дед на бабку глядел, бабка— на деда, ни словечка не говорили, сидели да глядели, глаза растопырив. Потом им надоело друг в дружку, как в зеркало, глядеться, и дед завел разговор на тихом шепоте:
— Дунь, ты ж не постарела, удивительное дело.
— Ну, будя! — сказала польщенная бабка.
— Истинный бог, может, самую малость. Точь-в-точь как была, оттого я и признал тебя враз...
— А ты, Васенька, уж совсем обсолиднел, — ласково сказала бабка, — был-то на Иоанна Крестителя схож, а ныне-то ну вылитый Николай-угодник, чудотворец,
— Э-эх, — крякнул дед, — с нашей-то встречи сорок годков, почитай, прокатилось, а то б я тебе показал Миколу-чудотворца. — Он нагнулся к ней еще ниже и сказал уж совсем еле слышно: — Я и ноне не такой инвалид!