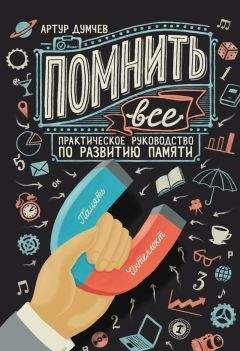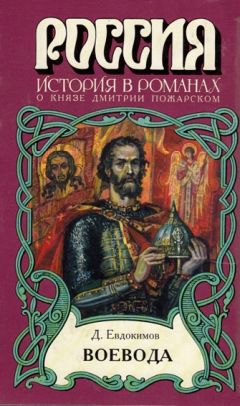Николай Евдокимов - У памяти свои законы
— Ты, солдат?
— Ну?
— Баранки гну! Куда насдобился? Прыгай купаться!
— Обойдусь, — сказал Фролов, но спустился к реке, стал дожидаться Анфису возле ее вещей. Она подплыла, велела Фролову отвернуться, оделась в кустах.
Потом сидела рядом с ним на валуне, отжимала волосы, восхищалась природой и купанием. Волосы у нее были длинные, густые, как лошадиная грива.
— Сберегла? — удивился Фролов.
— Сберегла, — ответила она радостно.
— Смех! Это же на фронте ферма по разводу автоматчиков.
— Кого?
— Ишь ты, не понимает... Ну, вошей...
Она усмехнулась:
— У нас они танкетками звались. Убереглась! Короткую стрижку не люблю. Что за баба без волос?
— Так разве ж ты баба?
— А кто ж я? Мужик?
— Солдат.
— Нутк все одно баба.
Она засмеялась. Тихо как-то засмеялась, томно, с потяготой. Фролов поглядел на ее голые колени. Круглые они были, гладкие, как яблоки. Он посидел, глядя в сторону, поднялся.
— Ладно, с боевым приветом!
— Куда ж? Отдохни, — сказала она. — Ты у меня теперь один тут земляк. Посиди.
— Надоело.
И пошел. Она догнала его.
Розовость уже ушла с неба, река охолодала, загустилась — вот-вот упадет темнота. Они шли, молчали. Фролов смущался, что Анфиса идет рядышком. Близко идет, локтем задевает.
Он отодвинулся.
— Фролов, — сказала она.
— Ну?
— Вопрос задам, ответишь?
— Загадки не загадывай, говори.
Она вскинула на него глаза, усмехнулась. Он ждал, когда ж она задаст свой вопрос, но она не задавала.
— Где ж вопрос-то? — спросил он.
— Раздумала.
И снова они шли молча. Так и до дому дошли.
— Э-эх, — сказала она у ворот, — уж точно так точно: всюду относительность.
— Опять ты с этой хреновиной, — рассердился Фролов, — брешет незнамо что! Слушать противно.
— Истина это, не хреновина, — сказала Анфиса назидательно. — Относительность всюду. Меж людьми, в природе...
— Не разводи агитацию. Не признаю я этого.
— То ж закон природы, чудо-юдо!
— Вот дает! Слышала звон. Сообрази сама, деревня: не может человек быть относительно другого человека. Нет такого закона.
Он махнул рукой, ушел к себе. Но Анфиса не отстала, последовала за ним, примостилась на табурете возле стола.
— Отчего бы это, Фролов? Раньше, до войны, я ни о чем таком не думала, а теперь все думаю, все рассуждаю? — спросила она.
— Разжужжалась, — досадливо проговорил он, снял сапоги, улегся, вскинул ноги на спинку кровати, чтоб кровь отлила, разгуделись они за день. — А что толку от твоих рассуждений? Три копейки им цена, твоим рассуждениям. А свою относительность ты вышиби из башки. Такой ерундовины можно напридумывать сколь угодно. Все живое объединения ищет, стадом ходит, друг к дружке жмется — коровы там, лошади, волки, лисы, любые птицы. И человек — тоже. Закон — чтоб люди вместе жили. Ясно? А ты «человек относительно другого человека».
Анфиса слушала его с ухмылкой, курила, облокотясь о стол, пускала дым в открытое окно.
— И таких я видала. Дите ты, Фролов. Люди-то от страха друг к дружке жмутся, а страх пройдет — и опять врозь.
— Не ври. — Фролов рассердился. — Не таков человек. Не переиначивай. Одно слово — баба, все переиначит.
— Чего ж это я переиначила? Ничего не переиначила. Относительность — закон природы. Старший лейтенант все знал, он зря не говорил, доказательность у него была.
— Интеллигент он, твой старший лейтенант.
— Ты его не позорь, слышь. — Анфиса обиделась. — Не знал его, не обзывай.
— Больно нужно обзывать. И без знакомства чую, каков у него запах, коли такие речи толкал. Не разбирался он в политике, твой старший лейтенант, вот что я тебе скажу.
— Это еще почему?
— А потому — не кумекал, что к чему. Таких разных законов знаешь сколь можно напридумывать? Вагон и маленькую тележку.
— Эк, какой ты веселый! А ну напридумай!
— Пожалуйста. Да что я? Были на свете всякие разные законники. Вот, к примеру, Гитлер-собака тоже решил новый закон природы открыть: дескать, среди людей одни — господа, другие — рабы. Господа командуют, рабам даже шевелить мозгами воспрещено. Фондерпшик из этого закона природы получился. Может, кто и хотел бы отделить человека от человека, но настоящий закон тянет их друг к дружке. Ни войной, ни какой хреновиной не разделишь! Ясно, голова садовая? Потому и у Гитлера не получилось, чтоб, значит, люди и думать не смели. А как это — не думать? Человек, конечно, слаб телом, а вот духом посильнее слона. Его можно искровенить, руки-ноги отсечь, в концлагерь запереть, на коленки даже поставить, а свою собственную думу думать никак нельзя воспретить. И на коленках он что пожелает, то и будет думать. Вроде бы и покорился телом, а мозгами — все свое колесо крутит. Поклоны бьет, а колесо крутит... Вот он, закон природы, настоящий-то. Оттого-то люди шагают и шагают вперед, с самого изначала идут и идут.
— Наговорил ты, Фролов, аж голова распухла, — устало сказала Анфиса. — И все ж, что ни толкуй, человек супротив другого относителен.
Фролов даже крякнул, побагровел от злости:
— Эка дура!
— Не дура, Фролов, — печально сказала она. — Как же не относителен? Ты вот про законы распелся, в облака улетел, а я гляжу на тебя да другое думаю.
— Что ж ты такое думаешь?
— А то: спустился бы ты, дурак-дурачина, на землю да меня бы пожалел, вот Ромка и я, разве не относительность?
Фролов подумал, кивнул:
— В этом деле, что ж, соглашусь, относительность. Однако ж мечта не всегда сбывается. На то она и мечта, будто сон нездешний.
— Вот видишь, — значит, я права. — Анфиса засмеялась с превосходством. — Эх ты, законник. Ну, ну, спокойной ночи.
И ушла. Фролов поворочался на кровати с боку на бок, потом поднялся, схватил двумя пальцами из горшка с цветком Анфисин окурок, выбросил его за окно, да подальше, к забору, чтоб и духом ее мужицким тут не пахло. «Баба, баба — окромя ляжек, ничего бабьего и нету...»
Утром Фролов не сам проснулся, его разбудил крик в соседском дворе. Орал пьяный Ромка, — может, с самого ранья нализался или, наоборот, с вечера не просыхал. Он ломился в избу, кричал, что Анфиса не имеет никакого права выгонять мужа на улицу, что половина дома принадлежит ему. Дверь открылась, и на порог вышла разъяренная Анфиса в синей ночной рубашке, босая, всклокоченная. Она не кричала, она, уперев руки в бока, молча глядела на Ромку, но так глядела, что он оробел, попятился назад.
— Не видать тебе моей избы как своих ушей, — сказала Анфиса. — Ишь, умник, удумал чего. Ступай проспись.
— Ты кто такая? Кто ты такая, спрашиваю, чтобы указывать? Тьфу! Вот ты кто. Пустое место. Гляди-ка, героиня какая фронтовая! Половина избы моя. Тут хочу жить. В своем дому!
— Нету здесь твоего дома. Ни половины нету, ни четверти. Моего деда изба, а ты с какого боку? Иди к Шурке квартируй.
— Не указывай! — заорал Ромка. — Не пустишь по-доброму, судом высужу. Указывает! Я дом берег, покуда ты с солдатней путалась.
— Что? — Анфиса ринулась на него.
Он отскочил, увидел прислоненные к курятнику вилы, схватил их и, взвизгнув, с перекошенным лицом пошел на Анфису. Она метнулась обратно, но дверь в избу была закрыта. Не вовнутрь открывалась, а сюда, наружу, — чтоб открыть, надо было хоть на секунду повернуться к Ромке спиной, но этой секунды у Анфисы не было: Роман шел пригнувшись, держа наперевес вилы. Анфиса прижималась спиной к двери.
Фролов понял, что Анфисино дело — табак, и сиганул во двор в одних трусах. Но Роман уже поднял вилы. Вот оно, мгновение, — со всей силой он бросит их сейчас в Анфису, пригвоздит ее к двери!
— Ну, бей, гад, бей! — крикнула она и пошла навстречу острым зубьям.
— Убью, все одно убью! — завопил протрезвевший Ромка, откинул вилы и почти рухнул на ступени крыльца.
Анфиса, закрыв глаза, стояла над ним.
— Сопля, — наконец, отдышавшись, глухо сказала она. — Баба!
И ушла в избу. Фролов перелез через плетень, подобрал вилы и упрятал их на всякий случай подальше в сарай. Роман глядел на него невидящими глазами, трясся словно в ознобе.
— Эй, Фролов, — крикнула в окно Анфиса, — пощупай: чай, мокрые у него штаны?
Роман, оживший вдруг, как от удара плетью, вскочил. Однако Фролов удержал его.
— Я ей, гадюке, покажу, покажу, — бормотал Ромка, вырываясь из фроловских рук.
— Отпусти его, — сказала Анфиса.
Она вышла на крыльцо. Уже одетая, с вещмешком.
— Ну показывай! Все только обещаешь, а показу никакого нету. Прощай, гражданин хороший, Ушла я. Бери избу, владей, царствуй. Черт с ней! Люди на фронте жизни теряли, а это... барахло это, да залейся ты тут, подавись. Все равно опоганенное место. Руки-ноги есть, наживу...
— Уймись, Анфиса, — жалко сказал Ромка. — Смирись.
— А что ж я? Я смирилась. По-твоему получилось, даже с прибытком, всю избу тебе оставляю. Радуйся...