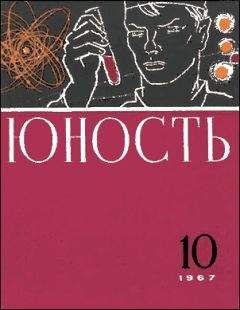Расписание тревог - Богданов Евгений Федорович
Следующим стал председатель. Григорий мог бы вытащить первого, кто подвернулся под руку, но председатель колхоза был для него лестнее.
— Петр Федорович! — позвал он не то чтобы требовательно, но довольно энергично и твердо. — На минуточку.
Председатель выслушал его, нахмурился, но подчинился тоже и сел рядом с Роговым.
— Эх, Серега, Серега, — сказал он ласково. — Знаешь, какую я за собой вину тащу? Будь ты не в моем разнесчастном хозяйстве механизатором, а в каком-нибудь позаметнее, вон хоть у Пашки Захарова, давно бы Звезду Героя носил! А теперь, на этой твоей должности, ничего тебе, кроме выговоров, не светит…
Рогов остановил его излияния?
— Брось. Хватит с меня наград.
Председатель тиснул ему плечо, поднялся. Негромко сказал Григорию:
— Кончай это представление.
— Я же как лучше хочу! — возмутился тот.
— Система твоя в корне ложная. Возьми вон Губарева. Туловищем штангист, а ногами не вышел, детский размер носит.
— Точно! — подтвердил Ревякин. — За столом сидит — Илья Муромец, а встанет… эх, лучше бы не вставал!
Рогов слушал безучастно, потупив голову; на лоб свесилась седая прядь. Отказавшая память нагнетала в душу тревогу; он уж почуял, что́ все это для него значит, и отчаянно замотал головой, моля молчавшую покуда боль погодить, дать время довести праздник, честью проводить гостей.
— Что ты, Сережа? — испугалась Надя.
Рогов рывком кинул тело на протезы, заторопился к людям, в толчею, в гам и смех, но опоздал, боль уже выстелилась поземкой, уже хватала за ноги, как собака. О с трудом добрел до боковушки, где стояла кровать сыне повалился спиной в постель и застонал.
Такого еще никогда не было. Сперва он почувствовал, как спиливают подошвы с его голых ступней, потом стали скусывать пальцы, начиная с мизинцев; когда же пыточная струбцина сдавила лодыжки, Рогов с нечеловеческим усилием вырвался из нее, вскрикнул и потерял сознание.
Веселье оборвалось. Гости, понимающе шепчась и кивая, скоро разошлись. За столом остались самые близкие: Петр Федорович, Паша Ревякин, зятья, да еще Григорий мешкал, не зная своего места.
Тая и Аня привычно обихаживали отца: одна терла виски, другая прибирала протезы. Надя следила за их молчаливыми действиями — потухшая, сгорбившаяся, как старуха.
— Чуешь, Надь! — нашел себе заделье Григорий. — Я фершала позову.
— Зачем? — сказала Надя. — Не надо никакого фельдшера.
— Ну нет! Человеку плохо, пускай оказывает! — С высоты своего порыва он посмотрел на Надю, как на малое неразумное дитя; в сердце торкнулось старое, забытое, погребенное временем: вот он в засученных портках бежит по лужам, а на закорках сестренка, полуторагодовалая, верещит от страха и счастья. — Так я побежал!
Фельдшер Сычов, раззореновский родчий житель, был фельдшер опытный, с живым умом. Узнав, что случилось, и выслушав ожидаемый ответ, спросил, что предшествовало припадку.
Присутствующие замялись.
— Да размер ног не мог вспомнить, — простодушно подсказал Григорий.
Фельдшер послушал пульс, потрепал Рогова по щеке. Тот открыл глаза, замутненно посмотрел на него.
— Может, какое обезболивающее дашь? — сказал председатель.
— Никакой химии! — возразил фельдшер. — Ну-ка, Сергей Павлович, давайте-ка сядем! — Рогова усадили, обложили подушками. — Угу, чудненько. Значит, так, Сергей Павлович. Установить размер вашей обуви очень просто. Длина стопы равняется расстоянию от запястья до локтя. Вот мы сейчас это расстояньице у вас смеряем и попробуем установить, у кого такое же, Надеюсь, все помнят размер своей обуви?
По лицу Рогова скользнула надежда.
Дочери принесли клеенчатый сантиметр.
— Так… согните руку в запястье… Что мы имеем? Двадцать девять… Угу. Ну, кто первый? Давайте, Ревякин.
Пока Паша выколупывал запонку, закатывал рукав, Григорий выставил свою, явно коротковатую против Рогова.
— Ваша, пожалуй, не соответствует, — заметил фельдшер, но все же измерил, чтобы не обидеть, а может быть, для чистоты эксперимента. — Да. Двадцать шесть. Недолет.
Пашина рука оказалась длиннее.
— Перелет. Ничего, сейчас попадем в яблочко! Ваш черед, Петр Федорович.
Председатель с готовностью засучил рукав. Измерили.
— Вы только подумайте! Опять не сходится!
— Может быть, другая сойдется? — хмуро пошутил председатель и сделал вид, что обнажает другую руку.
— Давайте теперь мою, — сказал фельдшер. — Прошу не торопиться, нужна точность.
— Двадцать семь… — разочарованно сказал председатель.
— Погодите, мужики. — Григорий наморщил лоб, удерживая какую-то мысль. — Двадцать девять, двадцать девять… Поймал! Пимы! По какому оне идут размеру? По длине следа! Двадцать семь, скажем, соответствует сорок второму. Двадцать девять — сорок третьему. И так дальше.
— Так вот же ответ! — воскликнул фельдшер. — Совершенно верно! Сергей Павлович, сорок третий! Сорок третий у вас был размер!
— Точно? — хрипло спросил Рогов.
— Как в аптеке! — рассмеялся фельдшер.
Все облегченно перевели дух. Григорий вытянулся петушком — теперь его место здесь, среди почитаемых людей и родни, было узаконено.
Рогов, рассеянно улыбаясь, прислушивался к ногам. Боль, похоже, дошла до упора и пошла на убыль.
— Угоститесь, пожалуйста! — Надя стояла возле гостей с подносом.
— Дело хорошее, — поблагодарил Сычов. — Вы тоже, Сергей Павлович, примите, не повредит.
Рогов отрицательно покачал головой и закрыл глаза.
Надя отнесла его в свою постель. Без протезов весу он был совсем детского; что ей, этакой здоровой бабе? Рогов бормотал что-то уже бессвязное, парно́е, сонное, думая сквозь сон, что ноги, по всему, отболели, но на могилу к браткам по госпиталю надо напоследок съездить, рассказать про орден.
Вот ведь какая нежданная вышла радость!
И положить розы.
Зимник
В марте, ранним утром, у «атээс», что означает «артиллерийский тягач, средний», прощались двое, два бородача — буровой мастер. Ветлугин, двадцати семи лет, и водитель Борис Шумилов, двадцати четырех лет. Ветлугин был энтузиазмом тюменской нефти и оброс бородой из чисто символических соображений. Борис отрастил бороду из соображений практических: зимой для тепла, летом от мошки, которая бессильно складывала крылья перед неприступностью его рыжего проволочного волоса.
Они теребили всяк свою бороду и мирно калякали под гул бурильной установки.
— Так что вот, — говорил мастер.
— Угу, — соглашался Борис.
— Будут воспитывать — не перечь.
— Это как водится.
Ветлугин улыбнулся, легонько толкнул водителя. Борис охотно ответил на его улыбку, но толкать мастера пожалел.
Из окошка ближнего балка высунулась мрачная горбоносая физиономия помбура Биджо. После сна он имел обыкновение торчать в окошке минут пятнадцать. На буровой это называлось: Биджо гуляет. Присутствие его мешало Борису говорить с мастером. Борис подошел к окошку, прихватил на ладонь нечистого крупитчатого снега, спросил:
— Гуляешь?
— Ну, — ответила голова равнодушно.
— Приступай к водным процедурам. — Борис поднес снег к носу Биджо.
— Иди ты! — обиделась голова.
Ветлугин терпеливо ждал, ковыряя снег носком бродня.
— Потом Нинке купи…
— Ага?..
— Килограмма два шоколаду купи…
— Ясно.
Им опять помешали. Из балка выскочил, в одной маечке и валенках, с полотенцем на шее, дизелист Пасий Устюжанин, кудрявый, мелколицый, с папиросой в толстых губах.
— Привет, привет, я — Ромашка, как слышите, перехожу на прием!
— Привет, — тяжело вздохнув, сказал Борис. Пасий мог шутить: сургутская милиция его не вызывала.
Дизелист спустился к ручью, расшвырял лапник, прикрывающий черную прорубь, лопатой выплеснул тонкий ледок, сбросил незначительную свою одежду и с показным наслаждением опустился в воду.
У Бориса мороз пробежал по коже.