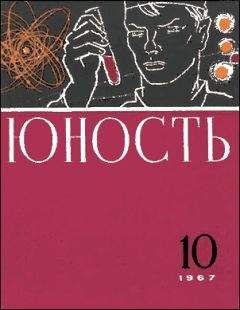Расписание тревог - Богданов Евгений Федорович
Покачиваясь, детина показал, как бы он поступил с Борисом.
— А я бы ждал?
— И не охнул.
— Ишь ты, — фыркнул Борис. — Ну, ладно, хромай, на первый раз прощаю. А гипотеза интересная.
Детина стоял.
— Ну ты чего корни пускаешь? Мы же договорились вроде?
— Хлеба вынесешь? — угрюмо попросил детина.
— Ладно, — пообещал Борис. — Переваривай пока.
Повар впустил его с неохотой.
— Что будете? — спросил он, ужав обрюзглые губы.
— Одно первое, два вторых.
Борис сбросил ватник и остался в свитере, хозяйски расхаживая по залу.
— Трудный участок? — посочувствовал он повару.
Тот что-то пробурчал.
— Терпи, товарищ! — продолжал Борис — Побед без трудностей не бывает.
Повар выставил тарелки, поллитровую банку с чаем.
— Откуда тольки такие берутся… — пожаловался он, не глядя на Бориса. — Которые дак тарелки бьют, почишше этого.
— Я полагаю, — рассудил Борис, — вы сами виноваты, товарищ. Ну, пустили бы его. Дали каши. Тихо, мирно, культурно.
— Да-а, — покосился повар. — Как же, разбежался.
— Опять вы не правы! — Борис решил заняться воспитанием повара. — Вы думаете, вы его кормите? Не-ет, — Борис ткнул ложкой в направлении повара, — он — вас. Это же разведчик недр! Пять суток по тайге шел, питался корой. Родину, можно сказать, радуя, сил не щадил! А вы ему… какой-то каши… — он отшвырнул пустую тарелку, — пожалели!
Может быть, частично оттого, что пища была консервированная и неаппетитная, в шутку начатая мораль обернулась в его душе гневом. Проснулась также обида на снабженца, из-за которого такие начались у него неприятности.
— Дай сюда жалобную книгу!
Повар растерялся, засуетился в раздаточной — вероятно, тянул время до прихода Кутузова.
— Я жду ведь! — прикрикнул на него Борис.
— На! Подавись! — швырнул наконец повар засаленную ученическую тетрадку.
Борис, прищурясь, поднял тетрадку, аккуратно расправил и стал листать в поисках чистого места. Она была исписана вдоль и поперек. Борис углубился в чтение, прихлебывая чай из банки. Какие-то геологи жаловались на плохое качество отбивных, понося работников орса в очень рискованных выражениях. Одна странная запись заинтересовала Бориса. Каллиграфическим почерком было выведено: «Обед, вина, сервировка — все было очень хорошо. Лев Толстой, граф».
Борис хохотнул, воодушевись, достал авторучку и, сбрызнув на пол, приписал: «А повар на кухне от голода пухнет. С подлинным верно. Борис Шумилов, маяк пятилетки».
На кухню в эту минуту вошли двое. Один — краснолицый, в милицейской форме — видимо, это и был долгожданный Кутузов, второй — низенький, в меховой куртке и в картузе из нерпы — какой-то начальник.
Повар подобострастно начал объяснять милиционеру ситуацию, но тот его остановил.
— После. Эй, друг! — окликнул он Бориса. — Это твой тягач?
— Не-а. Повара.
— Ты мне надсмешки не строй! — подскочил повар.
— А куда едешь? — отмахнулся от него Кутузов, обращаясь к Борису.
— Согласно путевке.
— В Сургут?
— В Сургут.
— Ну вот и довезешь товарища. — Он повернулся к спутнику. — Вот с этим водителем и поедете, Яков Симеонович.
Детины во дворе уже не было — наверно, голод погнал его куда-нибудь, может быть, в магазин.
Кутузов помог взобраться Якову Симеоновичу, взял под козырек и ушел к повару. Борис деловито осмотрел машину, урчавшую на холостом ходу, вскочил на свое место.
— Поехали!
Они быстро миновали главную улицу, но на выезде застряли из-за колонны машин, ползущих, как похоронная процессия. Колонна и впрямь оказалась похоронной процессией. На головной машине, обтянутой кумачом и черными лентами, везли свежеоструганный гроб. Над гробом сидели простоволосые люди. Уже совсем рассветало, и Борис видел пар от дыхания и белые — не то заиндевевшие, не то седые — головы. На второй машине ехали трубачи. Они не играли, обморозив губы о медные мундштуки. На других стояли и сидели рабочие.
Борис вылез на подножку, кратко бибикнул, привлекая к себе внимание.
— Кого хоронят? — спросил он негромко, но так, чтобы его расслышали.
Рабочие поглядели в его сторону равнодушно — просто окинули взглядом его иногороднюю «атээску» и не ответили. Борис сел на место, покорно выдерживая подобающую минуте малую скорость.
— Я вам скажу, — неожиданно проговорил Яков Симеонович. — Хоронят безответственного человека. Видите ли, этот… — пассажир полез в кожаную папку и извлек какие-то бумаги, — вот Алексеев Владимир Иванович… этот Алексеев считал, что инструкции по технике безопасности для него не существуют. Работал на высоте без страховки. То есть без специального пояса. Ну и…
— Сорвался?
— Как и следовало ожидать, — кивнул Яков Симеонович.
Борис внимательно посмотрел на пассажира и его папку, криво усмехнулся:
— Значит, следовало ожидать?
— Разумеется.
«Ишь ты… — едко подумал Борис. — Значит, ты, Алексеев, сам виноват, что помер. Работал без специального пояса… А может, у тебя и не было его, этого пояса? Может, ты рекорд ставил? Про это ты теперь не скажешь…»
Он почувствовал такую обиду за этого неизвестного ему погибшего парня, такую ненависть к смерти, несправедливо уносящей смелых, отчаянных ребятишек, что перекосил яйцо и с яростью утопил головку клаксона. Низкий голос его вездехода взлетел над колонной, как крик раненного насмерть зверя.
Люди с ближайшего грузовика бестолково и враждебно оглянулись, думая, что он просит уступить дорогу, но Борис все не обрывал сигнала, и тогда они поняли его и просветлели. Гудок тотчас подхватили шоферы, в общем святом порыве безрассудно разряжая аккумуляторы.
На развилке нестройный и яростный хор сигналов умолк, и тут Борис разъехался с колонной, вывернув «атээс» на трассу Нефтеюганск — Сургут.
Сразу раскрылся заснеженный горизонт, стало светлей, порозовели склоны отрогов и дальний край неба; в складках снежных заносов, как синяки, еще держались тени.
Трасса то вздымалась в небо, то падала в русла безымянных речек, и нужно было глядеть в оба. Руками, ногами, спиной Борис впаялся в машину, как составная часть ее, остро, обнаженно воспринимая все жестокие ухабы и толчки дороги.
На обледенелом гребне одного особенно крутого подъема машина замерла и, лишившись упора, поползла вниз. Борис выскочил на подножку, беззвучно ругаясь, заработал рычагами. Скатились. Постояв мгновенье на месте, снова полезли наверх, забирая вправо. Но справа был слишком глубокий снег, и они снова попятились.
У подножия Борис вылез, пошел наверх пешком. Там он осмотрел предательское место, прикинул, как его миновать, и неровными скачками спустился к машине. Они снова стали вскарабкиваться. Яков Симеонович раскачивался на сиденье вперед-назад, точно пытался помочь многотонной машине своим весом.
Когда перевалили гребень, Борис сказал:
— Теперь мы в Сургуте.
Но до Сургута было еще далеко, как до Луны, и впереди их ждали многие подъемы и спуски. Борис бодрил себя первой победой на предстоящее.
Трасса вилась теперь на дне глубокой борозды, пропаханной в снежной целине бульдозером, и за боковыми отвалами не было видно ровно ничего. Стало потемней, но день уже начался, набрал солнца, и там, где борозда была мельче и можно было глянуть по сторонам, Борис видел промасленный уже снег, лоснящиеся стволы березок. Все указывало на близость тепла. Надо было успеть вернуться на буровую, пока держался еще этот зимник.
«Конечно, Ветлугин-то сможет выйти из положения!» — слабо утешался он. Но совесть все же его мучила, и, чтобы обмануть ее, он стал вспоминать бурмастера Ветлугина, его мудрое руководство и личную отвагу.
Несколько лет назад, еще когда Борис работал в Тюмени после ремесленного училища, произошла с ним история, перевернувшая его взгляд на жизнь и привязавшая к Ветлугину неизбывной любовью. Впервые за самостоятельную жизнь Борис напился тогда с одним другом Петей и подрался с каким-то пижоном у кинотеатра. Дружинников поблизости не было, и они успешно побили пижона. Когда дело, казалось, было завершено, пижон снова встал на ноги и так переплел друга Петю по уху, что тот только пискнул — и отключился. Борис снова взялся за пижона и тоже получил свое. Это ему не понравилось, но было уже поздно, уже подъехала милицейская мотоколяска.