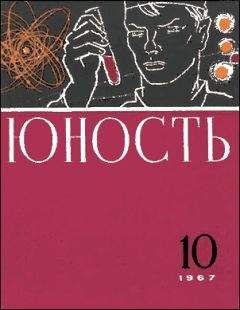Расписание тревог - Богданов Евгений Федорович
Прощаться сошлись все соседи. Мужики помогли заколотить двери и окна, кое-кто из баб даже всплакнул. Тетка Дорофея принесла булочек-подорожников. Жиздрин, сначала болезненно возбужденный, мрачнел с каждой минутой, бросал на односельчан беспокойные взгляды.
Зинаида села с шофером, мужчины устроились на вещах в кузове. Наконец, разбрызгивая галечник, грузовик выехал за околицу.
Дорога до большака прежде была непроходимая. Председатель принципиально не ремонтировал ее, полагая, что лошадь пройдет и по этакой, а на машинах ездили только к Жиздрину. Но однажды какая-то очередная комиссия полдня просидела в ухабе, и председатель, скрепя сердце, распорядился ее поправить.
У свертка на большак Жиздрин вдруг вскочил, отчаянно замолотил по крыше кабины, потом стал рваться за борт.
— Ты чего?! — растерялся Иван.
— Остановись! Остановись! Шо́фер, кому говорят!
Машина стала. Шофер выскочил на подножку.
— Забыли чего? — досадливо спросил он.
— Я отдумал, — сказал Жиздрин. — Вези назад!
— Как это — отдумал? — не понял шофер.
— А так. Не поеду, и все тут!
Иван возмутился:
— Ты что, отец, чокнулся? Едем, шеф!
— Не поеду ни-ку-да. Что я у вас не видел? Шо́фер, заворачивай.
— То ехать, то не ехать, — в сердцах произнес шофер. — Собрался, так уезжай! Всю плешь тут нам проел!
— Ты, паря, меня не сволочи́, — с ядовитой ухмылкой сказал Жиздрин. — У меня записано, куда ты в среду два мешка жмыха свез.
— Папочка, умоляю тебя, поехали! Ваня, милый, ну скажи ему!
— Отец, будь человеком, в самом деле!
— Нет, деточки родимы, драгоценны, никуда отсюдова я не поеду, — отчеканил Жиздрин.
Чем дольше они препирались, тем яснее и торжественнее становилось его лицо. Доводы сына Жиздрин слушал вполуха и с нетерпением оглядывался туда, где за поворотом, за березовой колкой, скрылась было от него деревня.
Вы не помните размер моей обуви?
Каждую осень, перед самым зазимком, у председателя Раззореновского сельсовета Рогова начинали ныть ноги, много лет назад потерянные на 2-м Украинском фронте. Боль была самая натуральная, как ни внушал себе Рогов, что быть ее не должно, что это сплошная мистика, и ничего другого. Иной год боль не отступала, росла день ото дня, и, если совсем уж становилось невмоготу, Рогов говорил жене:
— Зовут. Собирай.
Надя собирала его в дорогу.
Без малого трое суток Рогов ехал поездом, выходил на маленькой южной станции и до места добирался трамваем. Остановка называлась «Круг». Она была конечная; тут трамвай разворачивался и возвращался в город.
В здешнем легком краю в эту пору было еще тепло. Вокруг братской могилы, где были похоронены товарищи Рогова по госпиталю, зеленели пирамидальные тополя с пыльной, прореженной слегка листвой. Но цветы у обелиска лежали всегда свежие, и всегда розы.
С каждым шагом боль убывала. Рогов опускался на скамью у могилы, сидел неподвижно, перебирая в памяти друзей-товарищей, оставшихся здесь навсегда. Потом, превозмогая остатки боли, вставал и шел к неприметному бугорку в степи.
Некогда на месте этого бугорка была яма, куда сбрасывали отделенные хирургом конечности. Госпиталь был полевой, простоял недолго, и санитары засыпали яму, но Рогов к тому времени уже ползал и приметил место. После войны, подлечиваясь южным солнцем, он нашел его, почти день просидел в невеселых мыслях. И только когда влез на костыли и побрел прочь, обнаружил, что боли нет, улетучилась — как и не было.
С той поры он стал приезжать сюда — не регулярно, когда уж свету белого невзвидит; отдавал почесть браткам под обелиском и ковылял к своему бугру. Сев, расстегнув протезы, произносил фразу, ставшую уже привычной и дикую для постороннего слуха:
— Ну вот, ноженьки дорогие. Вот мы и вместе.
В начале октября Рогова вызвали в райвоенкомат. Тридцать шесть лет искал его орден Красной Звезды, и — надо же! — отыскал. Военком, новожил в районе, скороговоркой прочитал Указ, датированный сорок третьим годом, собственноручно прикрепил орден к пиджаку Рогова и трижды, со щеки на щеку, поцеловал. Поцелуи эти смутили душу, скороспешность вызвала досаду и раздражение; в этом неловком, непраздничном состоянии и вышел Рогов от военкома. Все было не по-людски. Вызвали, не предупредив зачем, а кабы предупредили, Рогов взял вы в колхозе машину, да председатель колхоза и сам бы с ним поехал; прихватили бы Надю, дочерей с мужьями. В райцентре недавно открылся ресторан «Вечерние зори» — вот в этих бы «Зорях» заказали заранее столик, созвали знакомых… А то: «Поздравляю, сердечно рад, вы свободны!» Рогов приехал без костылей, с палочкой, и не мог позволить себе даже стопки. «Ну-ну, чунь!» — подумал он, закипая привычной злостью, как всегда, когда сталкивался с людской глупостью.
Все же он поприжал злость, позвонил в Раззореново, в сельсовет. Трубку снял Паша Ревякин, секретарь. Услыхав новость, разахался, разохался, беззубо зашепелявил. Радовался Паша искренне, и это подняло Рогову настроение. Рогов велел наказать Наде, чтобы к его приезду стол был накрыт по большому счету да чтобы сгоняла внуков к родственникам и друзьям. Паша сказал: «Так это пол-Раззоренова звать надо?» На что Рогов ответил: «Пусть зовет все Раззореново!» И настроение у него поднялось еще на пару делений.
Домой приехал на почтовом тракторе. Конечно, Надя только разворачивалась, только заправляла в печь противни с курами, а закуска вообще не была готова.
Надя оправдалась:
— Куда эта спешка-то?
— Ты каждый день ордена получаешь?
— Да я к тому, Сережа… столько лет прошло — не заржавел, день-два погодили бы. — Она прижалась к нему щекой, раскаленной печным жаром. — Дай хоть гляну-то!
Рогов распахнул пальто.
— Ишь ты, баской какой, — сказала она. — Будто новенький!
Рогов усмехнулся, стряхнул пальто с плеч и тяжело подошел к столу.
— Докладывай, — сказал он.
— Гостей созвала. К семи, Паше денег дала, водку привезет. Ящик заказала.
— Почему не два?
— Куда два-то?
— Надежда, — жестко сказал Рогов.
— Ну два, два заказала!
— Соображаешь…
— Сережа, — сказала Надя через некоторое время. — Я Григория пригласила.
— На кой? — Рогов недобро сузил глаза.
— Сколько же можно, Сережа! Ведь он не чужой нам!
— Тебе да. Мне чужой.
— Шурин он тебе! А мне брат кровный!
— Я эту гниду впритруть видеть не могу! Хоть кто он тебе будь! Бра-ат… Ты вспомни, как этот брат нам на безмене муку отвешивал, на пирог наш свадебный!
Рогов с силой хукнул в мундштук папиросы, табак выпал на половик. Надя подняла, бросила в шайку под умывальником, припала к Рогову, обняв протезы.
— Сереженька, родной… Ведь тому уже сколько годов-то! Прости ты его ради такого праздника, ведь он тоже кровушку проливал на войне-то!..
— Встань!
Надя поднялась с колен, ушла в куть. Слышно было, что плачет.
Рогов сунул под мышку костыль, вышел в сени. Сломав ковшом ледок, зачерпнул из бочки воды, выпил единым духом.
— Бра-ат, твою так! — выругался он шепотом.
Григорий был одногодок Рогову, дошел до самой Германии. Демобилизованные везли домой трофейную мелочь: губные гармошки, часы, женские тряпки. Григорий оказался умней всех: приехал с полным сидором кремней для зажигалок. Кремни возил в город на толкучку, сбывал там за большие деньги. За полгода отмахал крестовый дом, обзавелся городской обстановкой, корову купил, овец, уток… С мукой точно, имелся такой факт, дал им муки Григорий, оговорив: «Теперь мы хоть и родственники, а счет знать надо, не у тяти от одного калача кусаем».
Надя уже не плакала, когда Рогов, поостыв, вернулся в избу. Тотчас придумала ему работу — резать овощи. Потом пришли дочери Тая и Аня, учительницы, работящие, молчаливые, обе пришли с мужьями, — вшестером едва управились к урочному часу.
А гости все прибывали и прибывали, мяли Рогова, мяли орденскую книжку, трясли ему руки, хлопали по плечам. Не без того: побаивались в Раззоренове председателя Советской власти, но и уважали, и, когда представлялась вот такая редкая праздничная возможность выразить свои чувства, выражали сполна. В деле Рогов спуску никому не давал, сам жил как все, и спрос с него тоже был как со всех, на равных; рассуждая о его деловых качествах, редко кто брал в расчет инвалидность — так уж он поставил себя среди людей.