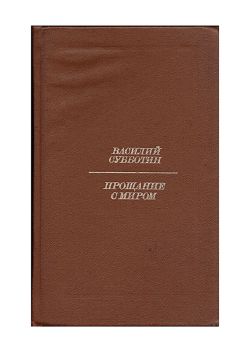Василий Коньяков - Далекие ветры
Я накинул телогрейку и пошел к стайке бросить корове сено.
Овцы испуганно смотрели из своего угла мне в глаза. В неподвижной дремотности стояла корова. На ее заострившуюся спину намело снег. Она его не чувствовала; наверное, так стояла с ночи, прислушиваясь к тугим сквознякам с огорода. На ее лбу заиндевела шерсть, и за белесыми ресницами чуть видны глаза — водянистые кроткие льдышечки.
Серый зимний день. Я опираюсь на черенок вил и не шевелюсь. Не понимаю, откуда взялась какая-то неясная тоска во мне.
В отверстия метет снег, струится по ветреному гребешку на черных будыльях объеденного сена, стоит корова в мерзлом затишье.
Так отчего же я остановился? Мне бы подняться по лестнице на крышу, скинуть навильник сена, а я смотрю, как свисает с крыши картофельная ботва. Я когда-то это уже видел… Стылую притихшую тоску. Это уже было. Было у меня, в моем детстве. Было в искусстве — у Коровина, у Серова. Серый снег. Серые лошади… Искусство уже переболело этой русской тоской. Оно к нему больше не вернется, не заглянет в деревенские дворы, где неуютно гудят на ветру скворечники по углам изб. Искусство ушло дальше… А жизнь…
Наша живопись давно ли видела эту жизнь, а играла в снежки, в белых халатах доила колхозных коров, перебирала клавиши в сельских клубах и не задумывалась, почему на зимней проселочной дороге оброненный клок сена вдруг заставит деревенского жителя замедлить шаги и перевернет все думы его. Что он будит в нем, какой является вехой? И я не помню этого чувства и сейчас стараюсь спугнуть его, как чужеродное и несвойственное мне, будто научился бояться его.
Я стою перед забытым миром и не знаю, чувствует ли то же мама, возвратившись с работы, увидев, как кружится над темным двором метель, или это для нее рядовая обыденность?
Начали замерзать руки. Я перехватил вилы, и отполированный черенок в сухом инее чуть не выскользнул из ладони. Залез на крышу, надергал сена из прикладка, сбросил вниз.
Корова оживилась, набежала на сено, отмахиваясь головой, старалась поддеть овец рогом. Я раскидал сено по углам. Ветер уже стих. Из молочного неба пробивалось солнце, затеплилось на строганых стенах домов. Ново и непривычно видеть высокие шиферные пирамиды крыш в своей деревне.
Деревня отстроилась. Новые дома с верандами выдвинулись к оградкам из штакетника, а за ними остались старые пятистенные избы. Стены их выцвели, поседели, а сами они будто ссохлись — так стали малы. Их не ломают — продавать некому. Так и стоят они, тараща слепые окошечки. Вот и наша изба сразу как-то отодвинулась от дороги. У нее пересохли пласты на крыше, ветер выдувает землю, и на углу обнажаются концы осиновых жердей. Изба — моя ровесница, так говорила мама. Только сенцы набраны позже из старых построек.
Когда-то здесь в углу стояли мои самодельные лыжи из осины. Я проделывал стамеской узенькие канавки, чтобы они оставляли за собой след, как от настоящих, фабричных. Такие лыжи я видел у одного красноармейца, прибывшего домой в отпуск. А крепления к самоделкам отец вырезал из своего ремня.
Нет тех лыж. Нет отца.
Я захожу в избу, раздеваюсь, сажусь на табуретку перед холстом. Так к чему же я готов? Что я знаю?
Моя деревня за окнами. Возит сено тракторами. Все школьники после четырех классов живут в районном городке в общежитии, и каждую субботу выезжает за ними колхозная машина. А я, единственный в те давние годы окончивший десять классов, ходил в школу каждый день пешком… Учился… Неужели чтобы скидывать корове сено?!
Так что же я думал об искусстве?
От ручек кистей пахнет краской. Тощие тюбики подняли хвостики кверху.
Мне нечего наносить на нетронутый холст. Проникнувшись тоскливым шелестом соломы, написать человека с вилами у заиндевевшей коровы, его одинокую обособленность? И остаться анахроничным.
Для него заснеженный этот двор давно уже имеет другую значимость. Мир, заряженный напряжением мысли, уже давно коснулся самых глубоких закутков его души, раздвинул границы его потребностей.
Нарисовать человека, забытый двор, изобразить внешние атрибуты жизни, — о, это было бы так просто! А время требует от живописи ответить, что я думаю по поводу этого двора, что думаю по поводу этого человека. Что думаю по поводу…
Вернулась мама с работы — перебирала картошку в овощехранилище; достала из печки щи и, прежде чем налить себе, долго грела о чугунок руки.
— Что ты сидишь над своими рамками? И не рисуешь ничего. Смотришь, смотришь… Может, ты заболел?..
— Завтра пойду на работу. В колхоз. Меня примут в колхоз? Ведь я как бы и не исключен… Не огорчайся, мама… — Я подошел к ней. — Не горюй. Мне бы только на краски заработать.
5 декабря.
Саня принес нам с Юркой пригласительные билеты в клуб. В заклеенном конверте сложенный листок из тетради.
«Дорогие товарищи! Приглашаем Вас в клуб на торжественное чествование скотника Подзорова Матвея Ивановича. Начало вечера в семь часов.
После чествования концерт».
— Любопытно… Ты видела здесь самодеятельность?.. Нет, ты не видела здесь самодеятельности. Я тоже. Помнишь, как подала это районная газета? «Новые формы работы сельского клуба».
Саня с баяном — портрет большим планом.
«…никогда не потухает яркий огонек клубной жизни в Речкуновке. Далеко виден он и зовет к себе людей потому, что работа в клубе проходит с выдумкой, с молодым задором. Есть чему поучиться у заведующего клубом Александра Равдугина».
— Сходим? Только валенки надевай, а то там опять, наверно, волков морозить.
Ночь темная, с оттепелью. У раскрытой двери клуба толпа мальчишек. Свет выхватывает их головы в нахлобученных шапках. Пританцовывают девчонки в скользких выбоинах луночек. Клуб полон. На лицах веселое нетерпение, расположенность к торжеству. Меня смущает мгновенное всеобщее любопытство — глаза все на дверь. Мы пробираемся между рядами. Юрка оживляется:
— Смотри, — продвигается он к стенке и, оставляя мне свободный стул, садится. — Андрей… Все в сборе, Вот это посещаемость…
В глазах Андрея насмешливая снисходительность. Я смотрю в зал. Первый ряд стульев завешен красной материей. На нем бодро выделяется старик в шубе. Один на весь ряд. На сцене стол с бархатной зеленой скатертью.
И начался маленький шарж на все большие собрания, какие я знаю.
— Товарищи колхозники!.. — учитель Александр Данилыч встал и, чтобы придать значительность своему сообщению, отпятился к барьеру сцены. — Товарищи колхозники! Мы собрались сегодня чествовать старейшего нашего колхозника Подзорова Матвея Ивановича. — Александр Данилыч помешкал минуту и не сказал, а провозгласил поставленным голосом: — Для ведения торжественного вечера нужно избрать президиум. У кого какие будут кандидатуры?
Саня подался от двери и выкрикнул с отработанной готовностью:
— Я предлагаю Подзорова Матвея Ивановича — лучшего нашего скотника.
Старик поднялся на сцену, сел за стол. Один. Почему-то неловко всем: и старику и людям в зале. Саня спешно шепчется с учителем.
— Сейчас… — Саня сообщает это скороговоркой. — С характеристикой товарища Подзорова выступит секретарь партийной организации колхоза.
— Ты смотри! Не знают, что делать, — крикнул кто-то.
Подзоров моргает часто, на шапку руки сложил, спохватился и снял ее со стола.
— …Тридцать два года проработал в колхозе на одном месте товарищ Подзоров. Ухаживал за коровами, пас колхозное стадо, а сейчас добросовестно работает в кошаре, хотя ему уже семьдесят…
Учитель не смотрит в зал, читает с листа. Заканчивая фразу, поднимает голову, бросает последнее слово и окунается в текст, чтобы не потерять новой строчки. Машинально оставленный хвостик предложения означает как бы контакт с аудиторией.
— …хотя ему уже семьдесят, — тут Александр Данилыч снова поднимает голову, и свет ловит его лоб и кончик носа, — пять лет. Товарищ Подзоров…
Александр Данилыч уже чувствует, что затянулась его речь, что ожидание спало и никто не слушает его, он вдруг обрадовался сам и вышел из-за кафедры.
— Поблагодарим товарища Подзорова за хорошую работу на благо нашего колхоза и нашей Родины.
— Вот отработано! Будь здоров, — шепчет Юрка.
— А теперь попросим Матвея Ивановича сказать что-нибудь о своей работе, труде своем.
Старик, побуждаемый ответственностью, значимостью минуты, понимает, что не волен отказаться, вылезает из-за стола. Колеблется и за кафедру не заходит.
— А давно работаю, правда… Я ня так чтоб кидался. Как уцаплюсь, так на одном месте и есть. Мои товарищи уже дурака валяють, а я… сяду дома и ня знаю, что делать… Ну и… что рассказывать? Нечего…
— Ну дед! Отчубучил. Теперь тебя товарищи встретят в проулке…