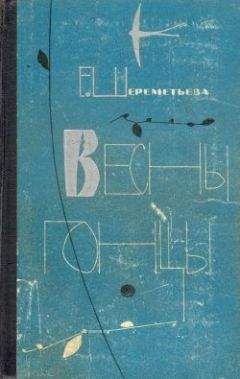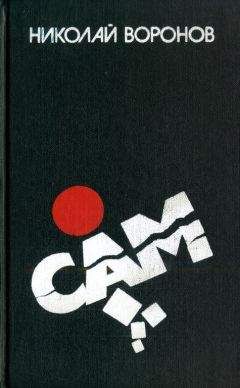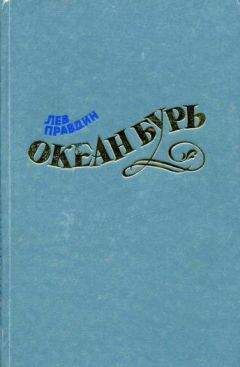Екатерина Шереметьева - Весны гонцы (книга первая)
Ночной холод струями вливался в машину. Алёна приподняла край брезента и высунулась наружу. Пятно света от фар ощупывало землю, и земля бежала навстречу, то замедляя бег, то словно кидалась под колеса. Неподвижно стояло небо, чёрное, звёздное, такое близкое. Конец. Страница перевернута. Но, бог мой, сколько неразгаданного, нерешённого, сколько встреч, впечатлений, тревог, мыслей на этой странице!
Шурова… одарённая, удачливая в работе, привлекательная женщина… Что она пережила? Почему одна? В памяти Алёны возникали люди, с которыми не хотелось расставаться навсегда. Сильным, обжигающим воспоминанием представилась ночная прогулка с Тимофеем. Жить на всю катушку… Без скуки…
Алёна устала, очень устала, но тревожное ощущение избытка сил опять завладело ею. Только одни руки обнимали её, только одного человека поцеловала она, и только он был ей нужен в эти минуты.
Кто-то потянул за карман плаща. Перекинув край брезента, она повернулась.
— Ангина требуется или грипп? — приподнимаясь на тюфяке, сказала Глаша.
Алёна присела возле Глаши и наклонилась к ней:
— Ничего не будет, Глашуха! Ночь-то какая! Небо, ветер, звёзды!
Глава двадцать первая. Концы и начала
Уже не различая фигуру отчима в группе провожающих, Алёна последний раз помахала косынкой и вошла в вагон.
Неделю назад, вот так же ночью, она сошла с новосибирского поезда, чтобы заехать домой. Чуть не со слезами смотрела тогда Алёна на Зину, Олега и Женю, стоявших на площадке отходившего поезда. Обидно было, что завтра они увидят Соколову, первыми расскажут ей всё. И так не терпелось встретиться с Глебом! Но нельзя же не побывать дома.
Окончание поездки праздновали в Барнауле. Снова огорчались, что не побывали в Алтайских горах. Но Глаша сказала, что это не настоящий праздник, а «черновая репетиция», потому что бригада не в полном составе. Джека из Бийска увез к себе в совхоз отец; Огнев, ко всеобщему удивлению, отправился с ними, чтобы посмотреть предгорье Салаира. Оттуда он собирался заехать в родную Козульку и ещё куда-то.
Остальные поехали вместе.
Поначалу Алёне не хотелось высаживаться в Вологде. Но она всё-таки уговорила себя ради матери побыть дома хотя бы недельку.
То, чем переполнена была Алёна, интересовало всех. А с отчимом они засиживались до глубокой ночи.
— Полоумные, ну чисто полоумные! — просыпаясь, ворчала мать. — Тебе же отдохнуть, поправиться надо, сухарёк ты чёрный! И тебе, Петруша, рано на работу.
Алёна недоумевала, как ухитрилась прожить рядом с человеком столько лет и не узнать его!
Не менее неожиданное открытие сделала Алёна, побывав у Митрофана Николаевича.
— Ну уж о целинных-то землях должны вы нам рассказать. Моя Серафима Павловна во сне и наяву ими грезит, — сказал он с лёгким укором.
Алёна зашла без особой охоты, а после была у них ещё два раза. Серафима Павловна, которую прежде Алёна ревниво называла «сдобной мещанкой», слушала её рассказы о поездке с такой жадностью и непосредственностью, как слушали братишки Степан и Лёшка, вопросы её были почти так же неожиданны и наивны.
Алёна представила себе эту веселую, добродушную, неукротимо деятельную женщину в «Цветочном» или в Верхней Поляне. Да она же просто клад!
— Конечно, вам надо ехать — вы как дрожжи… А учителя там — вот как! — нужны. А вы-то, Митрофан Николаевич, вы же можете всех заставить влюбиться в литературу! Поезжайте!
Митрофан Николаевич, держа на руках черноглазую дочку, глядевшую на Алёну с любопытством, все посмеивался и расспрашивал о работе, о Чехове, о Розове и вдруг, увлёкшись, вдохновенно, как бывало на уроках в школе, стал говорить о «Трех сестрах».
Накануне отъезда Алёна выбралась пораньше утром в лес, где ей так хорошо всегда думалось. День был серый, тихий, деревья стояли неподвижно, будто не проснулись, изредка вспархивали птицы, испуганные приближением человека. Как в прежние годы, Алёна пела и читала стихи:
Весна идёт, весна идёт!
Мы молодой весны гонцы, —
а слова будто стали другими, они звучали для неё шире, глубже, неожиданно возникала в них целина, и слышалась музыка. Прошлой осенью здесь же, в лесу, только в ясный ветреный день, она размышляла о том, что переросла Забельск. А пережив, повидав, передумав за нелегкий год, пожалуй, больше, чем за предыдущие девятнадцать, Алёна с недоумением и стыдом вспоминала свои высокомерные, пустые рассуждения.
Алёна застлала постель, забралась на полку и стала укладываться. Грусть расставания с домом проходила. От Глеба, от института, от Соколовой Алёну отделяло теперь несколько часов езды, и нетерпение, неодолимое, как озноб, напало на неё.
Глеб встретит её на вокзале. Ох, проспать бы завтра, ну, хоть до двенадцати! Если проснуться в семь, как привыкла в поездке, то до трех часов сойдешь с ума! Спать, спать, спать, и как можно дольше…
Пахло морем, Глеб обнимал её, никогда ещё не пережитое волнение то жаром, то холодом обливало тело. Алёна проснулась. Перед глазами — стенка вагона. Она взглянула на часы — половина седьмого. Спать, спать! А сна — ни в одном глазу.
Она осторожно повернулась. Знакомо, тревожно и нежно смотрели на неё раскосые чёрные глаза.
— Сашка!
Они одновременно рванулись друг к другу.
— Ты когда села?
— А ты не слышал?
— Спал как убитый…
— Ой, смотри: осинки — будто кровь…
— А небо серо-северное…
— А на Алтае-то помнишь?..
Свесившись с полок, перебивая друг друга, они говорили шепотом, чтоб не разбудить попутчиков.
— Чего валяться? — нетерпеливо сказала Алёна. — Встанем, выйдем в коридор?
Через минуту Саша, перекинув через плечо полотенце, оттенявшее его бронзовый загар, ушёл умываться. Алёна поспешно, не понимая, куда торопится, надела шаровары, блузку, полетела тоже умываться.
Саша, уже в ковбойке, стоял возле открытого окна пустого коридора, и она, зашвырнув на полку полотенце, накинула на плечи вязаную кофточку и стала рядом.
И опять они наперебой говорили о предстоящем учебном годе, о Соколовой, о том, что проносилось мимо окон, вспоминали поездку, дороги, Арсения Михайловича, последний концерт в «Цветочном», гадали: выгорит или не выгорит затея с молодёжным театром. Потом Саша рассказал ей о попутчиках:
— Она — директор школы, толковая женщина, должно быть, и педагог хороший. Муж её — архитектор, но… В общем, увидишь. Мы с ним три дня из-за Станиславского сражаемся. В соседнем купе их друг, старый путиловец, персональный пенсионер, он ещё с Лениным встречался. Все занятные — не соскучишься.
Алёна и не думала скучать.
На большой станции Алёна и Саша вышли поразмяться на перрон. Уже после второго звонка Саша вдруг разглядел в ларьке за вокзалом яблоки, и они вперегонки побежали за ними. Пока рассчитывались, поезд тронулся, и оба вскочили на ходу в последний вагон. В пустом тамбуре, еле дыша от бега, волнения и смеха, они выдумывали невероятные приключения, которые могли бы случиться, уйди поезд без них. Зелёные жёсткие яблоки вязали рот.
— Из-за такого добра чуть не отстать! Ой-ой-ой! — вдруг сморщившись, застонала Алёна, — За ушами кисло. А у тебя не бывает?
Чтобы не пробираться через все вагоны, решили ехать в тамбуре до следующей станции.
— Анна Григорьевна мне много интересного написала, — вдруг заговорил Саша, — в деревню… когда мать… — Он вынул папиросы. — Сейчас я должен изо всех сил воспитывать в себе качества Тузенбаха: бережное отношение к людям, благородство, нежность, тонкость душевную. — Он отогнал рукой дым.
Алёна засмеялась:
— Дыми уж!
Саша чуть сощурился, и по глазам было видно, как быстрая мысль его улетела далеко.
— Эта Марья Алексеевна, директор школы, мне вчера все мозги дыбом поставила. Она считает, что самый мощный рычаг в воспитании — чувство.
«Мы часто недооцениваем значение чувства, — вспомнила Алёна строчки из письма Глеба, — а чувство иной раз шире и глубже захватывает жизнь, чем рассудок. И нередко работает надежнее разума». У неё чуть не вырвались эти слова, но что-то удержало их.
— Конечно, чувства… И Разлука говорил…
— И Разлука, и Анна Григорьевна… И Рышков… И вообще это, очевидно, элементарно. Но до меня по-настоящему дошло только сейчас. Понимаешь, самая правильная, нужная мысль не окажет никакого действия, скользнет и забудется, если не взволнует человека, не затронет чувства, не заинтересует. Интерес — это ведь чувство, — объяснял Саша.
Ей нравилось и то, что он говорил, и мягкий звук сильного голоса, она только старалась поменьше смотреть на него, особенно когда он улыбался.
— Обязательно стану физиологией заниматься, — сказал Саша и торопливо отвел Алёнин вопрос. — Потом объясню зачем… А знаешь, я до чего додумался! — начал он смущенно. — Слабость, бедность, мелкота чувств — это всегда пессимизм — понимаешь?