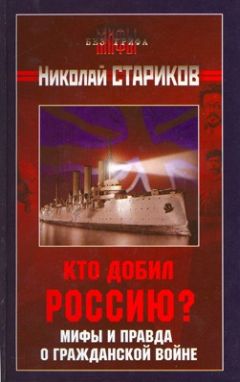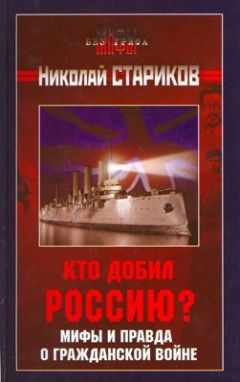Николай Воронов - Сам
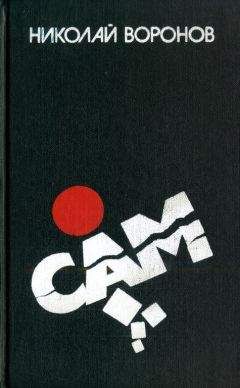
Обзор книги Николай Воронов - Сам
Сам
О, вещая душа моя,
О, сердце полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..
Почему лежит путь его вне дороги?
Зачем он спешит?
И почему он держит путь одиноко?
От автора
Чтобы далось ви́дение человеческих свойств, сложившихся на планете, необходим интерес к вселенской истории и, конечно же, к ее результату: современности. Под результатом подразумеваю не подведение окончательных итогов (их, убежден, делать рано), а то, что получилось у людей и с людьми на Земле. Сколько мудрых, благородных, изумительных затей было у них! Сколько совершено прекрасных дел! Сколько чудовищного возникло в противоток им. И вот то, чему сегодня мы наследники, свидетели, чего участники, разрушители, спасатели… Если минувшее в душе и уме литератора взаимодействует с теперешним только ради суда над действительностью, где люди стали всем или почти всем, а природу превратили в рабыню (правда, время от времени, с годами все чаще, она протестует, обороняясь, припугивая, поднимаясь до яростного возмездия), то сейчас этого уже недостаточно. Взаимодействие прошлого и настоящего для сохранения будущего — такую духовную задачу писатель не может не решать, ибо сегодня мерило ценности бытия — сохранение его грядущего.
Говоря так, я стремлюсь подчеркнуть свою приверженность гуманистическим идеалам свободы, равенства, братства. Из них я исходил, работая над романом «САМ».
Писался роман долго: больше двадцати пяти лет. Шел он к читателю трудно: не совпадал для некоторых рецензентов с другими вещами автора, якобы определившими раз и навсегда его лицо. Тенденция к замораживанию писательского лица, увы, существует. Причины ее кроются в циркулярно-бюрократических воззрениях, внедрившихся в «эстетическую» практику.
Эпоха нового мышления убыстрила понимание романа «САМ». Собственно, оно было и раньше, но перекрывалось наличием разноречий.
Хочу обратить внимание читателей на соображения оценщиков «САМОГО». С их помощью, предполагаю, будет проще входить в роман. Прозаик, доктор филологических наук, профессор, определил роман «САМ» как антиутопию. Рождение антиутопии он выводит из убеждения, будто бы пора утопий прошла, идеалы добра, справедливости, народного самоуправления в той или иной степени материализовались… Распространение антиутопии возбудило и то, что планета, испытала и испытывает кризисы духа, идей, нравственных ценностей, что в XX веке демонстрируют себя деспотические системы, возможность которых не мыслилась прежде, что мощный технический прогресс легко сошелся, переступив через «незыблемые», казалось, нравственные «принципы», с фашиствующими деспотиями, геноцидами, массовым истреблением людей, «опытами» над человеком… При всем желании согласиться с ним я не нашел с собой согласия. Действительность не исчерпала себя, человечество остается, присущая его сознанию и практике утопичность — тоже, следовательно, и в литературе она будет продолжаться.
Критик и эссеист не пытался определять родовую принадлежность «САМОГО»: он лишь подчеркнул, что Н. Воронов — реалист «по строчечной» сути, на этот раз выступает как фантаст, философ, иносказатель, причем остросовременный. Критик выделил в романе присутствие фантасмагории, мифа, политического памфлета, лирики, восточных и иных легенд, а также поверий далеких нам народов. Роман, по его мнению, драматичен и едок, очень серьезен. Это не чтиво, а чтение, побуждающее к размышлениям всякого толка, но непременно актуальным.
Сексрелигию, введенную в Самии дворцовыми сержантами, совершившими смещение Главного Правителя, он воспринял как превращение мысли в чувственность. Аналога, близкого этому роману, он не видит в нашей литературе.
Для прозаика, публициста-международника «САМ» — «роман будущего». Он пишет: «…такими именно — мыслительными, мне думается, станут романные книги, возможно даже в недалеком будущем. Николай Воронов, пожалуй, первым демонстрирует новое мышление в литературе в нашу переломную эпоху — перед возможностью всемирной катастрофы, в любом случае перед неизбежностью победы научно-технической революции, которая, безусловно, радикально переменит мир и человеческое сознание…» Им подчеркнуто, что автор размышляет о двадцатом веке — прежде всего. «Но время в романе значительно протяженней — на всю памятную историю; протяженнее и пространство: это и глубины океана и запредельность Космоса. Но и человек в романе-фантазии «САМ» присутствует, если так можно выразиться, в глубинах и запредельности, отчего, кстати, не перестает быть реальным человеком».
Ссылками на главные высказывания писателей я надеялся передать их объективное впечатление от романа, что, конечно же, не отменяет самовосприятия и личного взгляда на роман «САМ».
Я не фантаст, а фантазер. Без выдумки изображаемая литературой жизнь не была бы способна оборачиваться человеческими типами и метафорами социального существования. Этот роман несет в себе попытки подобного свойства. Проза, больше всего проза, еще с молодости притягивала меня своей пытливостью. Уже один метод аналитических проб на добро и зло, на вину и бесстыдство, на правду и ложь, снимаемых прозой с личности, классовой среды, общественной формации, создавал предпосылки для понимания человека и человечества, а также, что не менее важно, для образования собственной души. Методом таких проб стремился идти автор. Отчасти он пытался установить через проявления характеров пределы веры и кощунства, благородства и беззастенчивости, истины и обмана…
В форме романа «САМ» я различаю сплав не только разных жанров, но и видов литературы… Утопия соседствует в нем с антиутопией, реалистическое с фантазийным и романтическим… Ничего тут необычного нет. В словесном творчестве нашего века за счет увеличения веса его мыслительности стихийно, подспудно, да и сознательно совершаются слияния стилевых, жанровых, видовых признаков.
Благие умозаключения оценщиков приятны, пожалуй, большинству писателей, однако они и страшны им, в особенности тем, кому не удалось привыкнуть к расточительству критических похвал.
Что еще скажу о романе «САМ»? Для чего? Для затравки? Пускай для затравки.
Я занимался им, думая о судьбах людей и обществ на Земле, стремясь что-то от этих судеб привнести в природу своих героев и в здание воображенной страны.
А вообще-то мой роман о любви, прежде всего о любви неискоренимой, любви человека к человеку, человека к семье и народу, к миру и милосердию, к жизни и вечности.
Танаакин,
Танаакин,
Танаакин!
ПОСВЯЩЕНИЕ
Книга первая
Очень хотелось Курнопаю, чтобы неуступчивость бабушки Лемурихи растеребило, как однажды повыдрало смерчем оперенье грифа, который нападал на мальчишек, едва они появлялись на рыжем берегу Огомы: ко всему, о чем ни заспорят, бабушка Лемуриха относилась так, будто бы он нарочно ей перечит.
В тот день, когда начали стрелять на рассвете, ее самоуверенность стала приседать, словно гейзеры возле Огомы: то бьют чуть ли не до солнца, то сникают до накипей. Перед завтраком Курнопай сказал бабушке Лемурихе, наспех гладившей его школьный костюм типа десантной формы, что сегодня им торопиться некуда: наверняка бунтует военный гарнизон, — чему она сразу нашла опровержение:
— Ничего неожиданного у нас не бывает. — Но поверх деревянного жалюзи опустила пулезащитную сетку. Всякое случается в столице, где ловко налажена тайная продажа огнестрельного оружия.
Собственное злорадство огорчало Курнопая, и все-таки он поехидничал в душе, заявляя бабушке Лемурихе о том, что сегодня струсит прилететь за ними телевизионная «стрекоза». Бабушка Лемуриха разгневалась на Курнопая, однако не взяла его с собой на крышу дома: проверит, потом позовет. Конечно же, он, чтобы застыдилась при нем за свое наглое несогласие, пока она ехала на лифте, выкрутился на дом по винтовой лестнице. Крыша пустовала, и его глаза затосковали об орхидеях, из которых колибри пили нектар, — такими расписными картинками был покрыт вертолет, — и удивились, что вместо стыда на бабушку Лемуриху напало потрясение. Ее лицо, обычно крепкое, как на деревянных статуях красавиц знатного рода, размягчалось и подплывало в нижней части щек, словно она перед этим плакала долго-долго. Сам Курнопай хотя и чувствовал себя бодрячком, как прежними утрами, перед отлетом на телестудию, тем не менее слегка испытывал тревогу и от перемены в бабушкином лице, и от вида неба, заполненного белыми и черными дирижаблями в шахматном порядке: дирижабль, ближний к восьмиграннику их фиолетового здания, висел над свинцовым рудником. Из гондолы дирижабля дали по ним предупредительную очередь из пулемета. Пули, отскакивая от крыши, прошили лицо Главного Правителя, проницательно смотревшего с фотощита. Бабушка Лемуриха погрозила дирижаблю кулаком.