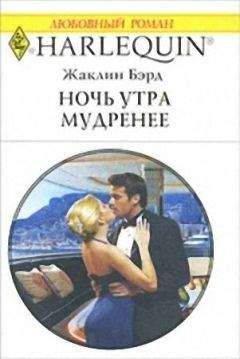Глеб Алёхин - Тайна дразнит разум
— Стоит, сестра моя. — Он растопырил толстые, кривоватые пальцы: — Золото, серебро и самоцветы. Всего пуда на три.
— Отцовское еще?
Говорить правду не хотелось. Старик перевел взгляд на стенную фотокарточку, вздохнул:
— Анна Иннокентиевна… За что тебя любила моя сестра, покойница?
— Не знаю, сударь, а только со мной и на германскую пошла: сама в госпиталь и меня няней пристроила. Сердечная была у вас сестра, Савелий Иннокентиевич.
— Да ведь и у тебя душа добрая, — он погладил ее руку. — Сходишь, душа моя?
— Сходить не трудно, сударь: Торговая сторона не за горами. А вдруг не поверят. Скажут: «Покажи, старая!»
— А ты им прямо: «Если б знала, сама принесла бы к вам». И добавь: «Солеваров — человек солидный, богу преданный, не обманет вас, только дайте ему спокойно умереть».
— Ладно, сударь, схожу.
— Завтра! Утром же! А то опередят, станут трясти, и тут уж никакой добровольности.
— А может, сударь, самому явиться?
— Ой, боюсь! При одной мысли… дух захватывает. — Староста вспомнил Рогова: — Вызвал! За горло! Неси чудотворную! Меня водой отливали. Хорошо, Калугин подвернулся, дай бог ему здоровья. Нет уж, Капитоновна, сделай милость — сходи…
Она подсыпала в самовар углей, брякнула трубой и вернулась к столу:
— Теперь в чека бывший начальник угро. Мужик, говорят, справедливый. За него Ланская замуж вышла.
Старик опустил глаза. Но бабка продолжала:
— Пострадала, бедная: оглохла и мертвеньким разрешилась. Да и вашей работнице из магазина шибко досталось, слова сказать не может. Ваша супружница велела отнести ей молочка…
Савелий совсем склонил голову, ему хотелось сжаться, сделаться незаметным комочком и закатиться в темный угол. Он вспомнил слова племянника: «Эх ты, глыба каменная, загородил дорогу с крестом на пузе, не даешь проходу нашему брату!»
В пустой комнате раздался стук. Старик и бабка оглянулись на дверь.
— Феденька, это ты? — громко спросила Капитоновна.
Солеваров увидел Алешу, побагровел и повалился со стула.
СХВАТКИ НА ДОПРОСАХУ мадам Шур серьги бутылочками. Они, как и глаза ее, поблескивают презрением. Всем своим видом она говорит сидящим за столом: «У меня диплом Сорбонны, книги на французском, обширная переписка с культурными людьми, а у вас что, неучи?»
Алеша вел протокол, а допрашивали Пронин, Воркун и Калугин. Уполномоченный развернул пачку писем и строго спросил:
— Кто такой Федор Кузьмич Тетерников?
— Неужели вы такой невежда?
— Но, но, полегче! — прикрикнул Пронин, и, заглядывая в письмо, спросил: — Где он живет?
— В Детском Селе.
— Про какие это он тут намекает «Политические сказочки»?
Арестованная захохотала. Уполномоченный цыкнул на нее. На помощь пришел Калугин. Он сухо, с чуть заметной улыбкой, пояснил мадам:
— Я вижу, вы впервые на допросе. Так учтите, гражданка Шур, опытный следователь заинтересован раскрыть не свою, а вашу эрудицию. Мы знаем, что речь идет о русском писателе Федоре Сологубе. В свое время Федор Кузьмич преподавал в здешней гимназии. Он ваш духовный отец. Но у него даже внешность противоречива: простые, мягкие, чеховские очки и суровые, внушительные усы, как у Ницше. Ваш наставник проповедовал крайний индивидуализм и в то же время в художественной прозе высмеивал этот самый мещанский солипсизм. Именно здесь, в Старой Руссе, он собрал материал для своего «Мелкого беса». Его герой романа Передонов стал нарицательным подобно Хлестакову и Обломову. К сожалению, вы забыли те книги, в которых ваш учитель бичевал мелкую пошлость, злобу, тупость захолустья — словом, передоновщину. Я уверен, что вы не дочитали «Политические сказочки», в которых автор откликнулся на революцию пятого года…
— Почему вы так решили?
— Скажите, пожалуйста, какие рассказы входят в сборник «Истлевающие личины»? Нуте?
Вероника Витальевна прикусила губу. Видать, одно заглавие сборника кольнуло ее. Она беспомощно пожала плечами:
— М-м… сейчас… не припомню…
— Зато вы отлично запомнили его символические стихи: даже поете их под гитару.
— Что в этом дурного?
— Дурное в том, что вы под влиянием символизма ударились в мистику: поступили на богословский факультет в Париже, а возвратись на родину, вступили в религиозно-философское общество Мережковского, Розанова, Минского… — Николай Николаевич бросил письма на стол. — Бог и монарх — вот ваше кредо!
— Я исповедую то, что доступно и любо русскому. — Она вызывающе вскинула голову. — Наш народ понимает «Капитал» без кавычек!
— Ясно! К богу и монарху вы приплели промышленников. Но это не значит, что вы, мадам, обладаете ясным, проникновенным взглядом на вещи и людей. Скажите, голубушка, кто такой Абрам Карлович Вейц?
— Воспитанный, высокообразованный дворянин, — уверенно начала мадам Шур. — Одаренный регент. Большой знаток Достоевского. Страстный коллекционер-библиофил. Очень гостеприимный и прекрасный семьянин. Правда, человек немного вялый, болезненный и далеко стоящий от политики.
Предвкушая эффект расставленной ловушки, Леша с трудом удержался от улыбки. Пронин и Воркун тоже ничем не выдали Калугина. Тот спокойно, деловито продолжал:
— А теперь обрисуйте портрет эмиссара патриарха. Нуте!
Все еще возвышая себя над чекистами, мадам Шур не без апломба красиво выставила ладонь:
— Внешность я не могу обрисовать: мы с ним беседовали в темноте. Однако натура его абсолютно очевидна волевой, умный, понимающий толк в политике и военном искусстве. Исключительный конспиратор! У него все подчинено цели. Я убеждена, что он не женат, далек от мира изящного и от всего музейного!
— Словом, эмиссар прямая противоположность Вейцу?
— Да, небо и земля!
— Так вот, голубушка, — наконец-то Калугин усмехнулся, — эмиссар и Вейц — одно и то же лицо!
— Как?! — пошатнулась она, сверкая серьгами. — Не может быть! Я знаю, я убеждена…
— Вы только что были уверены, что мы не знаем псевдоним Тетерникова. Вы не сомневались, что ваш друг Карп Рогов никогда не выступит против вас. Вы и мысли не допускали, что можете оказаться на процессе старорусских церковников. А ведь вам, голубушка, не избежать скамьи подсудимых. И мой добрый совет, мадам, держитесь скромнее и честно отвечайте на вопросы…
Арестованная платочком вытерла лоб и попросила разрешения выпить воды. Иван Матвеевич твердо спросил:
— Прошлым летом вы преподнесли икону Леониду Рогову?
— Нет.
— А кто?
— Не знаю.
— А вам известно, кто выкрал браунинг у Смыслова? — Воркун глазами показал на Лешу. — Ну?
— Нет.
— А что задумались?
— Если говорить честно, — она уставилась на Лешу, — ваш новый сотрудник — доверенное лицо Вейца.
— Ошибаетесь, мадам! — Пронин одобрительно похлопал Алешу по плечу: — Смыслов был аккуратным читателем, помогал Вейцу прибирать библиотеку и любил беседовать с ним о Достоевском…
— Ради чего? — И, не дожидаясь ответа, мадам Шур укоризненно покачала головой: — Втереться в доверие, а потом предать! И кого? Благороднейшего человека!
— Благороднейшего?! — возмутился Пронин. — А кто организовал убийство Рогова и Жгловского? Кто подстроил пожар на фабрике? Кто пытался вооружить обезумевших фанатиков саблями, гранатами, винтовками? Кто толкал верующих на протест против помощи голодающим? Кто прикидывался «красным», безбожником, сочувствующим советской власти, а на деле прислуживал патриарху и прочей контрреволюции? Молчите?!
Мадам Шур упрятала лицо в пушистое боа: она, видать, была не рада своей реплике. Калугин заставил ее съежиться:
— Учтите, гражданка, мы знаем — кто вы. И не становитесь в позу. Ваша «святая миссия» — образец греховности. Для вас тридцать миллионов голодающих не горе, а радость! Вы хотели преподнести своим землякам не божью благодать, а кровавое побоище! Вы даже близких вам людей — Карпа, Веру Павловну — поставили под удар, прикрыв оружие иконами да молитвенниками. Вы же знали, что прибыло в магазин из деревни? Нуте?
— Да, знала, — проговорила она упавшим голосом.
— А знаете, кто «подарил» иконы Леониду Рогову?
Арестованная взглянула на Воркуна и отрицательно замотала головой. Иван поверил, что она в самом деле не знает…
Отец Осип концом рясы потер голенище сапога, выставил вперед живот и крестом сложил руки на груди. Он дал понять, что в это время пора думать о хлебе насущном…
— Без трапезы, люди добрые, не до глагола. Здесь не пустынь, чтобы сидеть на пище святого Антония…
— Короче! — оборвал Пронин. — Одного обеда мало?
— Святые слова!
— А как же на Волге без обеда и день, и два, и три?
— Так Полисть-то, сын мой, не Волга.