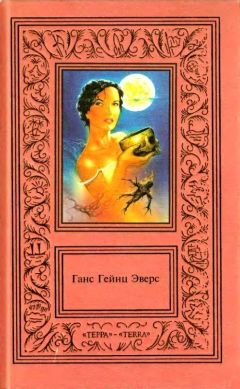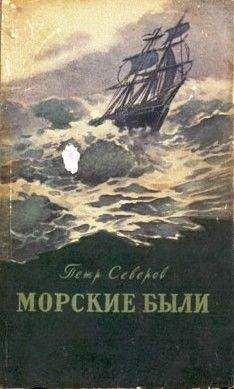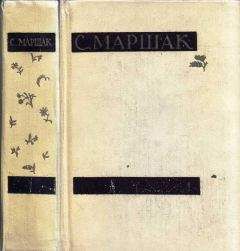Петр Северов - Сочинения в двух томах. Том первый
В ту минуту Лагутин случайно взглянул на Митеньку, и его внимание привлекли глаза бродяги: они смеялись. Что произошло с Митенькой Вихрем за это короткое время? С того вечера, когда, загнанный метелью в мазанку Калюжного, он опустился на пол у порога, и до прихода этих двух посыльных с шахты Копта Митенька оставался безучастным ко всему. Леонид Иванович приказал обмыть его и переодеть в чистое белье. Митенька молча покорился. Вызвали парикмахера: он подстриг и побрил больного, оставив черные крылышки усов. Лагутин уступил ему свою кровать, а сам устроился на ящиках, застланных матрацем. Кузьма и Наталия пытались было протестовать, но Леонид Иванович настоял на своем. Он сам лечил Митеньку, посылал за лекарствами и кормил с ложки.
В рваной одежде Вихря хозяйка обнаружила тряпочку, затянутую узелком, а в ней три золотых монеты. Она передала их инженеру, и Лагутин положил эти монеты на угол стола, чтобы Митенька видел, что они не исчезли. Еще в его одежде был найден длинный сточенный нож. И этот нож теперь лежал на столе, рядом с золотыми монетами, и Митенька целыми часами молча наблюдал за смутным блеском золота и тонкой полоски стали.
Вечерами, не глядя на метель, в мазанку Калюжного приходили не только соседи, но и шахтеры с дальних поселков. С каждой встречей у них появлялось к инженеру все больше вопросов. Хозяйка угощала их чаем, и они пили его вприкуску, аккуратно кладя перед собой обсосанные кусочки, говоря вполголоса, не перебивая друг друга, вдумчивые, вежливые и деловитые.
Если бы Митенька Вихрь был сколько-нибудь склонен к размышлениям, сама обстановка, в которой он оказался, и вечерние беседы этих людей могли бы пробудить у него какие-то мысли. Однако он не привык думать, не привык взвешивать пережитое: в прошлом у него не было радостей, а о печалях — что вспоминать? К тому же он был серьезно болен и, вероятно, это неожиданное участие незнакомых людей воспринимал как бы в полусне.
Почти все гости Лагутина слышали о Митеньке Вихре, а некоторые и видели его на свободе; об этом ночном разбойнике во всей округе ходила недобрая молва, и забота Леонида Ивановича о таком потерянном человеке не могла не удивить шахтеров. Одни из них понимали эту заботу как интеллигентскую причуду, другие как ошибку, которую следует исправить, ко Лагутин упрямо защищал свое странное покровительство бродяге.
— Человек споткнулся, — говорил он. — Проще простого — толкнуть его в грязь. Однако пусть запомнит, что люди, окружающие его, это не только доносчики, скупые хозяева и жандармы.
Казалось, только маленькая Марийка понимала Леонида Ивановича. Она все время была настороже и по первому знаку торопилась подать больному то воду, то флакон с микстурой, то куриный бульон. В минуты, когда у него прояснялось сознание, Митенька смотрел на девочку со страхом. Почему эта маленькая щебетунья вызывала у него такое явное опасение? Косые взгляды шахтеров нисколько не затрагивали его, а голос девочки и ее хрупкая ручонка, заботливо оправлявшая постель, заставляли Митеньку добела кусать губы.
Потом он впадал в равнодушие, ничего не видел и не слышал. На его смуглом, еще молодом лице резко проступали горькие линии. Иногда они неприметно стирались, и лицо становилось недвижно-спокойным, и Лагутин поспешно брал его руку, чтобы прощупать пульс — он опасался за жизнь Митеньки.
Когда фельдшер Сечкин, сетуя на невоспитанность хозяина, покинул в сопровождении долговязого детины мазанку Калюжного, Леонид Иванович еще раз внимательно взглянул на Митеньку. Нет, он не ошибся: глаза конокрада смеялись.
Разговор с Калюжным был кратким. Лагутин спросил:
— Что это вы, Кузьма Петрович, гостя так резко встретили?
Калюжный поскреб затылок, нахмурил брови.
— Не по душе он мне. Юлит, притворяется… А к чему притворяться? Ведь сразу же видно, что холуй.
— Он помогает устроить мою лекцию.
— Не знаю, кому и что он устраивает.
— Вы думаете, он подослан?
— Наверняка.
— А доказательства?
— Нету…
— Но так же нельзя, Кузьма Петрович!
— Нет, можно, Помните, как в первый раз он сюда вошел? Ух, какая важность! А теперь? Значит, есть у него какой-то свой интерес. Хи-хи да ха-ха — все это фальшивка. В общем, гнус. Овчарка, она хотя и обученная, а все равно — собака.
— Что же вы предлагаете, Петрович?
— Не нужно туда ходить.
— В Горное училище?
— Да. Не нужно.
— Запомните, Петрович, — мягко сказал Лагутин, — если бы по-прежнему мела метель, или ревел ураган, или случилось землетрясение, — все равно я пришел бы и прочитал свою лекцию… Понимаете? Ну, и довольно об этом.
Митенька порывался что-то сказать, даже с усилием привстал на локтях, но засмотрелся на смутный блеск металла, лежавшего на столе, и опустился на подушку.
Леонид Иванович набросил полушубок и вышел на воздух. Прошло уже более часа, а он все стоял над обрывом кряжа, поглощенный картиной заречного простора, испытывая чувство неизъяснимой близости к этой изрытой земле и одновременно томление по дальней дороге.
* * *Самая просторная аудитория Горного училища называлась Большим залом, она вмещала до двухсот человек. Устроители лекции считали, что много мест останутся свободными: объявления о встрече с известным исследователем Донбасса были вывешены только на поселке да в нарядной ближайшей шахты «Дагмара».
Побаиваясь, как бы затея не сорвалась из-за малого количества публики, Копт предлагал оповестить рабочих и других рудников, однако Трифонов заупрямился.
— Прежде всего уговор, — сказал он. — И нечего создавать тут академию!
Уже на второй день после метели были протоптаны тропы и проложены санные дороги. Но молва не нуждается в дорогах — она летит на крыльях. Быть может, за какие-нибудь два часа она облетела весь район, и многие обитатели бараков подивились такому повороту событий: только недавно любое собрание почиталось крамольным деянием и поднимало на ноги полицию и казаков, а теперь власти словно бы и не замечали объявлений.
В назначенный час у Горного училища собралось свыше пятисот человек. Были здесь студенты — завтрашние штейгеры, техники, десятники; были инженеры и преподаватели; мелкие хозяйчики-шахтовладельцы; просто обыватели — чиновники, торговцы; затесались хромой прощелыга дьякон, псаломщик и сам отец благочинный, но подавляющее большинство составляли шахтеры.
«Чистая» публика держалась, конечно, особняком. Она поспешила занять передние ряды; вслед за нею в зал хлынули шахтеры. Они заняли все места, подоконники, стенные ниши, заполнили проходы, коридор, но большая часть их осталась на улице. Маленький фельдшер встретил Леонида Ивановича на перекрестке, возле церкви, и, посмеиваясь, потирая руки, сказал:
— Полный аншлаг!.. Такого здесь еще не бывало. Правда, цирковую борьбу собирались глядеть три-четыре сотни человек, но ведь то — цирк, а это — наука! Пожалуй, нам не просто будет пробиться в помещение.
Он безбоязненно ринулся в толпу, пытаясь ее раздвинуть, и Лагутин поморщился от его нелепых выкриков:
— Пардон, господа!.. Идет господин профессор… Ну, ты, сиволапый, подайся в сторону. Что, может, в кутузку захотел?! Пардон… Будьте же вежливыми, скоты…
Шахтеры поспешно расступились перед Лагутиным, и вскоре он оказался впереди фельдшера — толпа тотчас же смыкалась за ним, и он подумал, что это происходило преднамеренно: оттесненный шахтерами, старичок Сечкин остался на улице, и его выкрики смолкли.
На каменном крыльце училища пожилой человек с курчавой бородкой осторожно взял Лагутина за кисть руки, жарко задышал ему в щеку.
— Слушайте минутку, профессор… Я из комитета большевиков. Товарищи поручили мне предупредить вас. Будьте осторожны. Очень похоже, что фараоны затеяли какую-то пакость…
— Спасибо, — шепнул ему Лагутин. — Значит, я не одинок?..
— О нет, профессор. Мы будем начеку…
В зале, стоя на невысоком дощатом помосте, какой-то упитанный господин, раскачиваясь из стороны в сторону и поблескивая лысиной, уже держал речь. Позже Лагутин узнал, что это был главный инженер шахты «Мария», обрусевший немец Краус. Когда он спускался в шахту, клеть застилали ковром; карманы его брюк — шахтеры это давно заметили — обычно оттягивали два револьвера.
Сейчас Иоганнес Краус говорил о какой-то гармонии общества, о единении науки, государя и народа. Завидя в дверях Лагутина, он принялся бить в ладоши, и его, сначала осторожно, поддержали первые ряды, а когда Леонид Иванович поднялся на помост, вторая часть зала грянула дружными аплодисментами.
Леонид Иванович внимательно осмотрел зал, поклонился, улыбнулся. Он не ждал ни такого стечения народа, ни столь контрастной аудитории. Герр Краус неспроста говорил о «единении» — по его домыслам, именно наука была призвана объединить богатых и бедных в самодержавном патриотизме. Но и в этом зале хозяйчики были отделены от народа отчетливой, резкой чертой. Рядом с благочинным сидел господин Копт. Рядом с Вовочкой Шмаевым — полицейский надзиратель. В пятом ряду мелькнула мясистая физиономия исправника Трифонова. У подоконника шушукались две пышно разодетые купеческие дочки: эти пришли не ради интереса к науке.