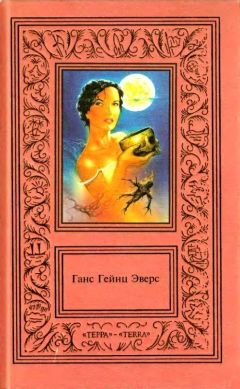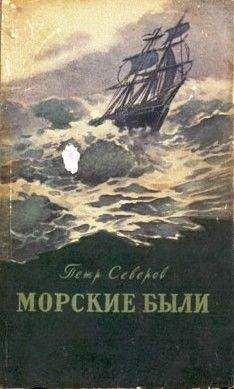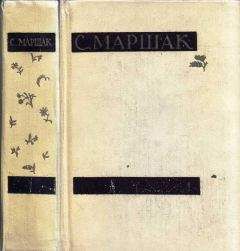Петр Северов - Сочинения в двух томах. Том первый
Он хорошо знал и население края, всех этих «собачеевок», «рахуб» и «шанхаев», где пестрый, лихой, разноязычный люд — украинцы, русские, белоруссы, татары, китайцы, чуваши, мордвины — были негласно отвергнуты законом и тем более накрепко спаяны судьбой.
Похожие на запорожцев из Сечи, битые жизнью, отчаянные, лихие, эти люди стояли у истоков великой реки, имя которой — Донбасс, открывали все новые родники, спрямляли русло, упорно раздвигали берега, не получая от ее даров заслуженного пая. С первых шагов по земле Донбасса Лагутина привлекали ее мирные ратники; они делили с ним хлеб, и махорку, и скромный уют лачуг.
Он заучил наизусть, как стихи, строки, оброненные Антоном Чеховым в одном из писем. Вот кто понял бы привязанность Леонида Ивановича к шахтерам, к этим людям неслыханно сурового труда, — Чехов. Временный обитатель шахтерской мазанки, бородатый, плечистый человек негромко задумчиво повторял такие трогательные для него слова:
«…Если бы не бациллы, то я поселился бы в Таганроге года на два, на три и занялся бы районом Таганрог — Краматоровка — Бахмут — Зверево. Это фантастический край. Донецкую степь я люблю и когда-то чувствовал себя в ней, как дома, и знал там каждую балочку. Когда я вспоминаю про эти балочки, шахты, Саур-Могилу, рассказы про Зуя, Харцыза, генерала Иловайского, вспоминаю, как я ездил на волах в Криничку и в Крепкую графа Платова, то мне становится грустно и жаль, что в Таганроге нет беллетристов, и что этот материал, очень милый и ценный, никому не нужен».
Так записал Чехов. Да, жаль, что болезнь не позволила ему поселиться в этих местах. Лагутин охотно стал бы его проводником по весям шахтерского края. Как знать, быть может, именно здесь, на ясных просторах кряжа и степи, в самой гуще народного бытия и произошло бы великое чудо исцеления?
По собственному опыту Леонид Иванович знал, какую освежающую силу таят бесконечные тропы изыскателя, студеная вода степных криниц, дымок ночного костра на бивуаке, ветер, настоянный на мяте, полыни и чебреце, дыхание земли после дождя, сон на охапке сена.
Луна уже взошла, и медная тропа, пролегшая по снегам к горизонту, постепенно стала светлеть, подкрашенная серебром, а Лагутин все еще стоял у калитки, приятно ощущая покалывание мороза, слушая перекличку ночных шахтерских смен. Почему-то ему всегда казался торжественным этот час выхода ночной смены: рой горящих лампочек, мерцающих в переулках поселка, бодрые голоса, условный пересвист приятелей, соленые шутки, смех…
Иногда он с удивлением думал о шахтерах: жизнь беспросветная, каторжная, злая; в глухих подземельях мрак и духота; в забоях крадется зловещий метан, хлещет ледяная вода, постоянно грозят завалы; дома, в землянке, словно в кротовой норе, негде повернуться или выпрямиться в полный рост, и если заглянет радость, так только в получку — с хмелем, слезами, проклятиями, с горем пополам. А человек несгибаем и горд; богатырской силенке его не страшны никакие беды; твердому, ясному характеру свойственны сноровка, хватка, смелость; дороги дружба, веселье духа, верное плечо товарища, суровая честность и готовность жертвовать собой.
Казалось бы, горькая бедность, пьянство и безграмотность, лихоимство десятников и грубость хозяев, грязь притонов и произвол полицейских царьков навсегда могли бы перечеркнуть достоинство человека. Но человек горд. Он видит, угадывает, понимает значение своего труда. И какие кристально чистые, пытливые, сильные духом нередко вырастают в темени и смраде землянок люди, как ощущают они еще не выросшие крылья, как жадно тянутся на огонек: взволнованно любят музыку, заучивают песни, слушают грамотеев, чуть ли не молятся книге, тоскуют по прекрасному, сбивчиво, но упрямо ищут к нему пути.
Сколько раз Лагутину приходилось выступать в шахтерских бараках, в нарядных, в тесных и грязных конторах, просто под открытым небом, в степи. Он не напрашивался. Его приглашали. В пестрой, шумной и всегда непокорствующей многоликой среде шахтеров обычно находились два-три «зачинщика» добрых дел. Узнав, что к ним прибыл ученый человек из самой матушки Москвы, они приходили к нему тайком от начальства, смущенно мяли в руках фуражки, смотрели в землю, неловко топтались у крыльца. Чубатые, мускулистые, бронзовые от солнца и ветра силачи, которым — это легко было понять с первого взгляда — не страшен ни надзиратель, ни пристав, ни сам сатана, они робели перед ученым, боясь, что он откажет в их просьбе.
Леонид Иванович не отказывал. Его глубоко трогала эта тяга шахтеров к свету. Он шел за ними в бараки, раскладывал на столике при свете коптилки тетради и книги и рассказывал необычной своей аудитории о строении земли, наблюдая, как отражается изумление в их широко раскрытых глазах, как скользит по задумчивым лицам от чадящей коптилки трепет пламени и одновременно трепет мысли.
Для него не было неожиданностью, что и здесь, в Лисичьем Байраке, где начал свою историю Донбасс, шахтеры хотели услышать слово науки. Он собирался уехать немедля, как только стихнет метель, но из-за этой лекции согласился задержаться.
Шахтерский поселок на обрыве кряжа, на древних Оленьих горах, был по-родному близок Лагутину; здесь он нашел следы первых разведочных шурфов и первой шахты, а люди этого поселка были внуками первых донецких шахтеров.
Не все они знали свою родословную, которой следовало гордиться. Вольница южных степей, закованная в кандалы; сыновья непокорных запорожцев, беглые гулящие люди из русских губерний, отважные бунтари — исконные враги престола и крепостников, они полегли здесь костьми на первых каторжных углеразработках, но они оставили своему потомству неистребимую мечту о свободе и правде, дух непокорности и высокий волевой накал.
И еще они оставили в наследство поколениям беспокойство и страсть первооткрывателей, постоянный, немеркнущий интерес к подземным далям кряжа, где таился источник их жизни — трудный каменный урожай.
Именно об этой традиции первооткрывателей Леонид Иванович и хотел бы рассказать шахтерам Лисичьего Байрака, чтобы встрепенулась в них гордость за отвагу отцов и дедов, за славные открытия и гигантский труд.
Однако недавно, когда с шахты Копта прибыли двое посыльных, Лагутина удивили странным поведением Кузьма Калюжный и больной бродяга Митенька.
Посыльными были уже знакомый Леониду Ивановичу старичок-фельдшер, юркий и прилипчивый говорун, и рослый, долговязый детина, сумрачный и молчаливый. Он сказал, что работает крепильщиком на новой проходке Копта, которого назвал басурманом и живодером.
— Тем не менее, — заметил Лагутин, — этот «басурман» снял за свой счет помещение Горного училища, чтобы мою лекцию могли прослушать не десятки — сотни горняков! Каковы его отношения с рабочими — не знаю, но этот случай, прямо скажу, редкостный.
Долговязый махнул рукой и погрузился в сумрачное молчание. Старичок фельдшер, посмеиваясь и потирая руки, засуетился вокруг Леонида Ивановича.
— Симптоматично! — воскликнул он, вскидывая щуплое личико и торжественно складывая на груди коротенькие руки. — Это веление времени, не иначе!
И тон его, и наигранный смешок, и поза не нравились Лагутину; он спросил:
— То есть?
Похоже, что ответ у Сечкина был заготовлен заранее:
— Этот басурман напуган. Да, именно басурман, так как он не христианской веры. Он понял, что народ стихийно стремится к благу, что мы, интеллигенция, поддерживаем идеалы, которые у государства и народа едины. Мы, интеллигенция, — сила, и поскольку с нами народ — самое верное пойти навстречу нашим свободам… Немец это осознал и, видимо, ищет взаимопонимания…
— Значит, не вы с народом, а народ с вами? — остановил его Лагутин. — И о каких «свободах» вы толкуете?
— Я говорю, — важно изрек Сечкин, — о достоинстве человека, о праве быть гражданином с большой буквы!
Леонид Иванович засмеялся; этот старичок и действительно был потешен. Он даже сделал боксерскую стойку, будто готовясь отразить чей-то наскок.
— Шумим, брат, шумим? Но успокойтесь: все прописные буквы в вашем распоряжении. Плюс еще ять, ижица, фита и твердый знак. А только это словесная трескотня, уважаемый.
— Как? — неподдельно изумился фельдшер. — Общее благо, высшие идеалы вы, либерал, считаете словесной трескотней?!
В разговор вмешался Калюжный; до этого он все время молчал, хмуря косматые брови. Он стоял у двери, тяжело опустив руки, тоже, казалось, готовый к драке.
— А знаешь, доктор, — медленно выговорил он, — очень хочется плюнуть тебе в морду.
Долговязый решительно поднялся с табурета; Сечкин замер с угловато вскинутой рукой, Кузьма повернулся и вышел из горницы; было слышно, как громыхнула наружная дверь.
В ту минуту Лагутин случайно взглянул на Митеньку, и его внимание привлекли глаза бродяги: они смеялись. Что произошло с Митенькой Вихрем за это короткое время? С того вечера, когда, загнанный метелью в мазанку Калюжного, он опустился на пол у порога, и до прихода этих двух посыльных с шахты Копта Митенька оставался безучастным ко всему. Леонид Иванович приказал обмыть его и переодеть в чистое белье. Митенька молча покорился. Вызвали парикмахера: он подстриг и побрил больного, оставив черные крылышки усов. Лагутин уступил ему свою кровать, а сам устроился на ящиках, застланных матрацем. Кузьма и Наталия пытались было протестовать, но Леонид Иванович настоял на своем. Он сам лечил Митеньку, посылал за лекарствами и кормил с ложки.